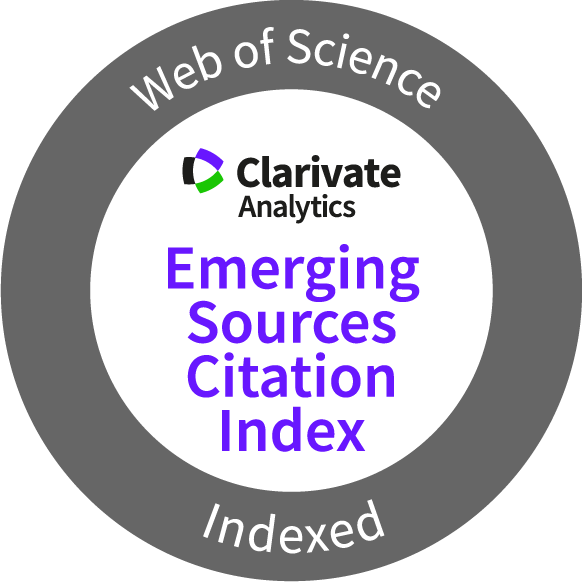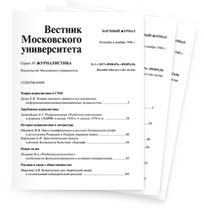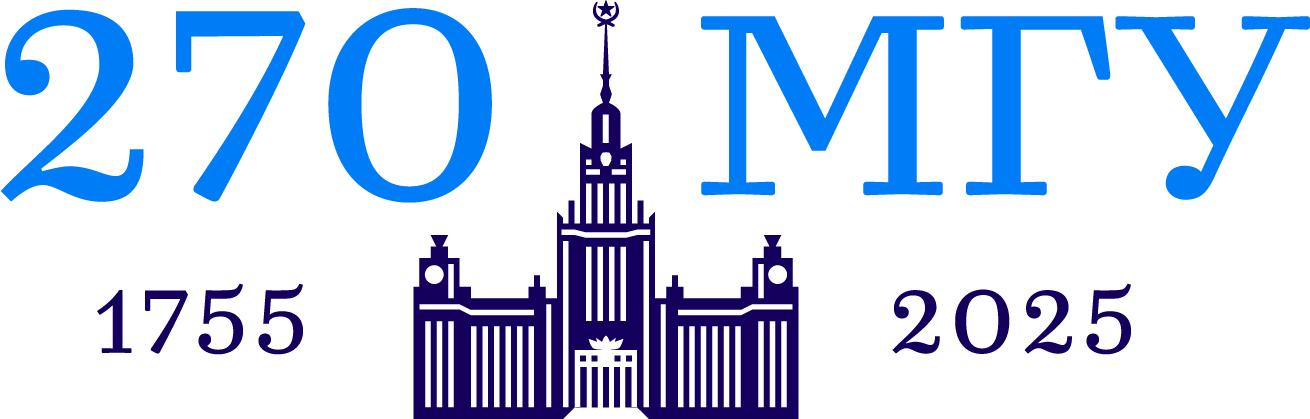Медиапотребление как область междисциплинарного анализа
Скачать статьюкандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID 0000-0002-8531-3908
e-mail: dunas.denis@smi.msu.ruРаздел: Социология журналистики
В статье рассматриваются актуальные положения теории медиа, природа которых сегодня все чаще описывается через анализ медиапотребления как социокультурной практики; теоретические подходы, описывающие динамику развития общества, в котором медиакоммуникации приобрели свойства социальной системы и трансформировали представления об обществе; теоретические подходы к языку медиа как ключевому инструменту конструирования социального опыта посредством медиатизации. Статья акцентирует необходимость проведения когнитивных исследований аудитории медиа (в рамках когнитивной лингвистики и психологии) для верификации медиаэффектов, что позволит углубить понимание процесса медиапотребления и его воздействия, а также будет способствовать дальнейшей кон- цептуализации медиапотребления как социокультурной практики в рамках междисциплинарного анализа. Предлагается целостный подход к анализу медиапотребления, который интегрирует социологические, лингвистические и медиаисследовательские перспективы для более комплексного осмысления влияния медиа на общество.
DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.6.2024.115135Введение1
Функционирование общества в условиях медиатизации, глубокого проникновения медиакоммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности и интеграция медийных практик, в том числе медиапотребления, в социокультурные практики современности2 вынуждают исследователей пересмотреть теории социального устройства, которые не уделяли медиа должного внимания.
Осуществляя попытки теоретического осмысления общества в условиях медиатизации и вообще природы социального и медийного, ученые опираются на традиционные представления об эволюции социальной организации как нормальном процессе культурных изменений (Мердок, 2003), а также о динамической природе социальных систем, образуемых процессами межсубъектного взаимодействия, структура которых опирается на ценности, нормы, коллективы и роли (Парсонс, 1998). Если первое положение ставит вопрос об актуальной теории общества, то второе – об актуальной теории медиа, которые приобрели характеристики социальной системы. Роль медиа в общественных трансформациях настолько велика, что невольно возникает вопрос, являются ли медиа инструментом этих изменений, или они суть этих изменений и как разграничить природу медийного в обществе и природы социального в медиа3.
Так или иначе элементы социальной структуры демонстрируют большие изменения в условиях бурного роста цифровых медиакоммуникационных технологий в обществе и побуждают к обновлению социальной теории, созданию частных теоретических концепций новейших социальных практик: например, новой этики, культуры отмены или новой социальной справедливости (Коэн, Иванова, Травкина и др., 2021; Плакроуз, Линдси, 2022). Сдвиг в социальной теории при этом начался ранее и во многом обязан влиянию постмодернизма и развитию следующих его положений: реальность как таковая не существует; индивиды и их социальное бытование сконструировано властью; инструментом производства знания выступает язык (Плакроуз, Линдси, 2022: 27). Все эти три аспекта выступили солидным фундаментом медиатеории до эпохи социальных сетей, о чем убедительно свидетельствует наследие французских постмодернистов.
Но самый главный вопрос и социологов, и медиаисследователей – о влиянии на общество, эффектах медиакоммуникаций – не решается без помощи знания о природе и функционировании языка. Потенциальные и реальные, верифицированные эмпирически и мнимые, существующие в аналоговой среде или цифровой – эффекты медиа невозможны без языка, речевой деятельности и речевых инструментов. Именно языковые способы конструирования реальности – социальной или виртуальной – выступают для исследователей медиа ключевой инструментальной основой научного анализа, едва ли не единственной доступной наблюдению и измерению.
Именно язык связывает когнитивные реакции человека и мыслительные процессы в систему знаний, представлений, мышления. Язык – это социальная практика, которая является не только производной, но и порождающей силой, поскольку напрямую участвует в формировании социального мира. Ключевой подход современного социогуманитарного знания – социальный конструкционизм – базируется на ряде фундаментальных представлений об устройстве общества, в которых языку уделяется центральное внимание (Дейк, 1989).
Во-первых, система знаний человечества и поведение индивидов являются результатом категоризации, некой объективно существующей реальности, физической картины миры. Категоризация выстраивается с помощью языка, а точнее – дискурса. Сегодня исследователи говорят о медиакатегоризации как форме стереотипообразования. Дифференцируя картину мира и модель мира, исследователи объясняют последнюю как знаковую форму выражения, семиотическое воплощение информации, содержащейся в картине мира, реализацию картины мира в конкретной семантической системе. В свою очередь, картина мира описывается как идеальное образование, образ объективного физического мира (Маковский, 1996). При этом строгого различения двух терминов нет, зачастую они используются синонимично: так, в контексте медиа распространение получил термин «медиакартина мира»4.
Во-вторых, репрезентации картины мира, кодируемые в языке, исторически и культурно обусловлены, контекстуализированы и, следовательно, могут меняться со временем. Язык и формируемый дискурс выступают формой организации социального мира, отношений, поведения субъектов (Иссерс, 2011).
Наконец, в-третьих, в процессе социальных взаимодействий индивиды реализуют множество дискурсов, конкурирующих друг с другом. Борьба дискурсов приводит как к смене приоритетности среди одних, так и к полному уничтожению других и воплощению третьих. Мировоззрение, отраженное в дискурсе при помощи языковых форм, есть часть социального действия, реагирующего на динамику социального развития, выраженную в языке (Водак, 2006).
Получается, что изучить современное общество невозможно без изучения медиа, а изучение медиа невозможно без языка. Статья ставит задачу предложить теоретический обзор междисциплинарных теорий и подходов к современному обществу, в котором медиа приобретают признаки социальной системы, а ключевыми инструментами конструирования категорий «социального» продолжают оставаться язык и коммуникации.
Социальная теория: истоки и развитие медиацентричного подхода
Для теоретического построения модели современного общества используются различные подходы. Наиболее распространенным выступает социальный конструкционизм. Согласно нему, знания, которыми обладает общество, имеют конвенциональную природу и являются продуктом различных сообществ людей. Социальное сконструировано социальным. Существование реальности вне социального конструкционизма и вне каких-либо других макродетерминант и методологий познания – вопрос открытый. Реально существующий мир, отраженный в рамках объективной теории, – условное допущение в науках, описывающих явления социальной природы (Микляева, 2016). Если реальности как некой объективной сущности нет, то, вероятно, единственным инструментом постижения какой бы то ни было реальности остается сознание человека, существующее и выраженное в языке (Гиренок, 2022). Идея о том, что знания об окружающем мире, об образе мира конструируются людьми благодаря использованию языковых возможностей тех общностей, к которым они принадлежат, восходит к трудам отечественных психологов Л. С. Выготского (1983) и А. Н. Леонтьева (1981). Ученые объяснили, что субъект осознает действительность благодаря системе языковых средств, которые отражаются в его сознании. Связь двух систем – социальной и языковой – отчасти получила развитие в теоретическом осмыслении взаимосвязи другой пары – общества и массовой коммуникации.
Одним из первых социологов, заострившим внимание на системных, а не подсистемных функциях массовой коммуникации в обществе, был Н. Луман. Медийная коммуникация обладает конститутивными характеристиками социальной системы, и медиакоммуникацию можно рассматривать как подсистемный компонент, который выделяется в структуре системы и имеет потенциал к трансферу из подсистемных отношений в системные (Luhman, 2011). Несмотря на силу и темпы медиатизации, медиакоммуникации по-прежнему остаются преимущественно подсистемным компонентом и в целом управляемым элементом общественного организма, особенно в контексте их существования в границах национальных государств5, однако потенциал к реализации системных характеристик у медиакоммуникации присутствует в полной мере.
Другая неклассическая теория социальной системы – это теория ассамбляжей американского философа М. Деланда (2018). Новая онтология общества опирается на теоретический конструкт ассамбляжа как конструкции, существующей в состоянии динамических отношений в виде автономных целостностей, состоящих из гетерогенных частей, которые, в свою очередь, тоже состоят из ассамбляжей. Части и целостности обладают равной реальностью. Социальные сущности в таком понимании не редуцируются ни на макроуровне – социальными структурами, ни на микроуровне – практикой человеческого существования, ни на мезоуровне – допускающем взаимодействие индивида и социальной структуры. Та или иная сущность есть составная часть другого ассамбляжа, который уже включает первый ассамбляж в свою сущность.
Наконец, развитие медиацентричного подхода в социологии связано с подходом, знаменующим «поворот к материальному» в современной социологии, а именно приписывание агентности не-человеческим акторам в русле акторно-сетевой теории Б. Латура (2014). Суть теории сводится к изменению статуса материальных объектов: прежняя ограниченность их функционирования в качестве инструментов социального действия заменяется на равный с людьми статус в производстве действия. Концептуализация агентности материального объекта бросает вызов классической теории социального действия (Ерофееева, 2014). Теория усложняет соотношение между социальным и осмысленным, которое, по М. Веберу, являлось необходимым, но не достаточным условием социальности, поскольку только ориентированное на «других» действие могло называться социальным. Акторно-сетевая теория ставит вопросы о границах между людьми и не-людьми, природным и техническим, микро- и макроуровнями. Однако устойчивая связь между акторно-сетевой теорией и медиатеорией все еще не сформирована (Couldry, 2008).
Динамичная социотехнологическая среда стала неотъемлемой компонентой современного общества, в котором индивид усваивает ключевые параметры социальной структуры в процессе цифровой социализации. Цифровая личность при таком рассмотрении становится продуктом реальной и технологически достроенной цифровыми технологиями личности, что отражает современный этап социальной и когнитивной эволюции человеческой психики (Солдатова, Войскунский, 2021). Согласно этому подходу, цифровые технологии интегрируются в когнитивную систему человека и социальную систему общества, определяя цифровое расширение (достройку) индивида и пересборку общества.
Таким образом, хотя новая философия общества как единая конвенциональная и нормативная система знаний все еще не выработана, некоторые подходы заслуживают внимания наравне с социальным конструкционизмом. Очевидно развитие медиацентричного направления в социологии, которое, вероятно, будет усиливаться.
Язык: объединяя социальное и медийное
Способы и механизмы структурирования социальных знаний описаны множеством научных терминов: метанарратив и фрейм – из наиболее распространенных (Грудева, Кизилова, 2017), общим для которых является признание этой системы функциональной, существующей в условиях языковой коммуникации и представляющей собой когнитивную структуру или категорию – концепт (Никонова, 2008).

В современных исследованиях понятие «нарратив» постепенно становится одним из ключевых, активно используемых для анализа текстов, речевых актов, а также динамично развивающегося информационно-цифрового общества и медиакультуры. Широкий спектр вопросов, связанных с нарративом, обусловлен его способностью точно отражать структуру современной медиакоммуникации и описывать ее в качестве культурного феномена.
Нарратив рассматривается как результат осмысленной коммуникации между индивидами, представляет собой особую логическую форму реализации когнитивных процессов, а совокупность нарративов формирует нарративный дискурс, уникальный по своей природе, поскольку нарративы различимы. Нарратив представляет собой метод языкового конструирования реальности в форме дискурса, в котором отражен процесс речевого кодирования. Нарративный дискурс существует в тексте, организованном по нарративному принципу в качестве события, в которое вовлекаются несколько участников, посредством текста происходит обмен информацией, которая наполнена смыслами и историями (Татару, 2009), в которой есть время и изображение мира (Томашевский, 1996).
Метанарратив представляет собой всеобъемлющую рамку, находящуюся над конкретным повествованием, сконструированную в определенном социокультурном контексте и состоящую из комплекса нарративов, формирующих в том числе базовые установки, понимание человеком «правильного» и «неправильного» (Лиотар, 1998; Троцук, 2023). При этом метанарративы неразрывно связаны с социокультурным контекстом эпохи, к которой относится их возникновение (Бурдье, 1986).
Метанарратив – стереотипизированный и абстрагированный культурный код, соотнесенный с доминирующей системой ценностей общества и государственной идеологией, нормами морали и другими весомыми для конкретных культур детерминантами макроконтекста. Интегрируя в себе ценности и культурные коды, он имеет устойчивую структуру, фундаментальную основу и является незыблемым на протяжении продолжительного периода. Под медиарепрезентацией метанарратива понимается одна из возможных интерпретаций конкретного медиасообщения, предполагающая знание метанарративов как социокультурного контекста, интересов элит, а также актуальной повестки дня.
Близким к метанарративу понятием выступает идеологема – объект, символ, фрагмент письменного текста или устной речи, который потенциально рассматривается создателем текста – и, как следствие, воспринимается аудиторией – как культурный код, отсылка (прямая или косвенная) к метаязыку, предполагаемому набору ценностно-мировоззренческих норм, умозаключений, представлений о должном, фундаментальных идейных установок, устоев, которые приписываются обществу как долженствования (Гусейнов, 2003). Р. Барт видел в идеологеме способность означающего слова постоянно превращаться в означаемое: смысл, метаязык, знаковое или образное сознание (1996). Идеологему возможно определить как мировоззренческую позицию, как директиву, выраженную в языковой форме (Купина, 1995), как языковую единицу, семантика которой содержит идеологический денотат, но интегрируется в семантику, которая реализует (по крайней мере, мимикрирует под это) неидеологический денотат, встраиваясь в культуру и обретая новую сущность культуремы (Купина, 2000).
Ключевым условием существования идеологемы является ее актуализация внутри определенного метаконтекста (Меньшикова, 2011). И этот контекст – идеологическая система. При соблюдении этого критерия она приобретает ценностный статус, становится аксиокатегорией, приобретает значимость для большинства представителей языкового сообщества, особенно понятной носителям языка.
Процесс актуализации идеологемы проходит в два этапа: во-первых, она находит выражение в рамках идеологического дискурса (речи представителей власти, государственные документы и проч.), что помогает идеологеме приобрести соответствующий статус ценности; во-вторых, она отражается в конкретном языковом дискурсе, то есть в ее конкретной реализации. Попадая в языковую среду, обретая текстуальность, идеологема вступает во взаимодействие с другими элементами текста и становится выразительным средством формирования смысла (Журавлев, 2004).
Языковеды приводят и другие дефиниции идеологемы, связывающие понятие с термином «ключевое слово». Под ним понимается один из способов обеспечения текста смысловым наполнением, придающим ему не только логичность, завершенность, цельность, но и осмысленность, опирающуюся на определенный набор ключевых идей или ключевых слов (Мурзин, Штерн, 1991). Среди других языковых инструментов реализации идеологемы можно назвать клише и устойчивые метафоры (Малышева, 2009). Идеологемы сгруппированы вокруг значимых концептов и аксиологических категорий (аксиокатегорий). Исследователи выделяют пять основных разрядов аксиокатегорий в русском языке: власть, социальное устройство, образ врага, религия и культурно-философские ценности (Журавлев, 2004). Идеологема представляет собой конкретное объяснение, или экспликацию, идеологии, имеет инструментальный характер идеологического разъяснения и представления (Малышева, 2009).
М. М. Бахтин предложил понимание идеологемы в максимально широком контексте идеологии, как семиотический феномен, выраженный в форме слова, но по сути своей являющийся социальным знаком, детерминированным идеологической системой (1975). В его понимании реализация идеологемы в дискурсе является способом языкового проявления идеологии в текстовой форме. Идеологизация онтологически присуща всем видам человеческих обществ, она интегрируется в общекультурный код как специфика социального, экономического, политического, культурного характера, выступая одновременно как отличительный признак и базовая характеристика общества.
В идеологеме как продукте взаимодействий систем социальных явлений и когнитивных процессов индивида активизируются и реализуются при помощи языка идеологические маркеры, отражающие общие, коллективные, стереотипные и даже мифологизированные представления о ключевых явлениях жизни. Кроме своей идеологической детерминанты, идеологема обладает национальной – культурно обусловленной – спецификой, традиционной для конкретного общества, аксиологичностью, разнообразием способов репрезентации в социокультурном пространстве общества через различные семиотические системы, где языковая остается одной из ключевых, а также имеет признак высокой частотности словоупотребления (Борисенко, 2008; Гринев, 2009).
Н. И. Клушина рассматривает идеологему с точки зрения стилистики русского языка и публицистического дискурса. По ее мнению, основой идеологемы является образное, или метафорическое, обладающее сильной суггестивной силой, мировоззренчески насыщенное обобщающее слово. Такое слово-идея имеет оценочную коннотацию, которая распространяется на весь текстовый континуум, задавая ему определенную идеологическую модальность6.
Идеологема становится центральным понятием публицистического текста и дискурса. Она подразумевает целенаправленное воздействие на аудиторию. Включенная в коммуникативную ситуацию, идеологема реализует функции идеологии, но способна приобретать дополнительные смыслы в процессе творческой эволюции слова и текста, интегрируясь в публицистическую картину мира, создаваемую медиа. Идеологема представляет собой вербальное выражение идеологических, политических и социальных установок, которые должна воспринять аудитория – в целях устойчивого развития социального организма.
Идеологема как влиятельный фактор структуры текста определяет и другие интенциональные категории публицистического текста и дискурса, поскольку ее формулирование осуществляется через выбор определенных номинаций, придающих положительную или негативную характеристику контексту. Идеологема способствует проявлению таких интенциональных категорий воздействия текста, как тональность и интерпретация. Тональность создает необходимый отправителю медиасообщения контекст и усиливает оценочность. Интерпретация обеспечивает приоритетное понимание адресатом заложенной автором основной идеи7.
Важным является вопрос о типологической или видовой классификации идеологем. A. П. Чудинов, рассматривая специфику функционирования идеологем в политическом дискурсе, выделяет два основных вида идеологем в зависимости от политической принадлежности коммуниканта. В первом случае смысл идеологемы неодинаково понимается сторонниками различных политических взглядов; во втором – идеологемы понятны сторонниками определенных политических взглядов и передают специфический взгляд на существующую политическую реалию (Чудинов, 2003).
Другая типология идеологем опирается на разграничение их специфики: тип концептуализируемой информации; актуальность или неактуальность для идеологической картины мира и политического/публицистического дискурсов; аксиологические или практические аспекты содержания идеологемы (Малышева, 2009).
В рамках публицистического дискурса Н. И. Клушина различает социальные и личностные идеологемы. Социальные идеологемы отражают установки и ориентиры общества (модель будущего/прошлого, образ друга/врага, образ государства, самоидентификация народа, национальная идея). Они являются фундаментальными и онтологически присущими обществам, но различаются в зависимости от своеобразия культурно-исторического или этноспецифического контекста. Идеологемы ориентированы на будущее, поэтому наряду с историческими и современными широко распространены именно футурологические идеологемы, которые опираются на историческое прошлое, развивая его. Персональные идеологемы формируются вокруг значимых политических фигур, героев или антигероев современности8.
Идеологемы присутствуют во всех существующих дискурсах, поскольку являются онтологическими для существования языка. Даже в тех случаях, когда идеологема не является доминантной, она все равно выполняет функцию воздействия, поскольку ее суггестивная характеристика и когнитивный аспект выступают в качестве языковой универсалии, то есть свойства, присущего человеческому языку в целом (Малышева, 2009).
Медиапотребление сегодня: от социоцентристской к парадигме когнитивных наук
Современное знание о процессе медиапотребления и о природе медиа в структуре общества базируется на теории (социологии) массовой коммуникации, теоретические положения и концепции которой были сформулированы преимущественно англо-саксонскими исследователи в XX в.9 В условиях цифровизации, медиатизации, сетевизации как метапроцессов современности происходит формирование тех характеристик медиакоммуникаций и той сути медиапотребления, которые не проявлялись в аналоговых медиа в условиях медиации, отсутствия социальных сетей, что требует переосмысления существующего знания, а для отечественной медиатеории – в дополнение к формулированию новых подходов еще и доместикации зарубежного опыта10.
Переход от массовой к индивидуализированной, кастомизированной, фрагментарной медиакоммуникации означает формирование узких групп по интересам, что ведет к социализации индивида в среде единомышленников, но и несет угрозы (Кастельс, 2000).
Ключевое изменение информационно-коммуникационной сферы, приведшее к функционированию медиакоммуникационной индустрии в ее современном виде и ее теоретическому осмыслению, связано со множеством факторов, но, прежде всего, с развитием социальных сетей в Интернете. Социальные сети привели к формированию в онлайн-среде новых форм социальных конструкций и процессов в результате онлайн-активности социальных взаимодействий, осуществляемых опосредованно с использованием цифровых медиатехнологий, но по своей сути замещающих практики социальных взаимодействий в реальной жизни, в физическом пространстве общества. Социальные сети наделили медиакоммуникации прежде не свойственными характеристиками социальной среды, в которой реализуется активность личности.
Трансформацию фундаментальных основ теории массовой коммуникации возможно эмпирически отследить на примере переосмысления некоторых частных теорий, например теории использования медиа и удовлетворения потребностей. В первоначальном виде теория гласила, что потребление контента аудиторией опосредованно – через получение информации и благодаря способности к воображению – удовлетворяет самые разнообразные запросы: не только медийные – в информации и развлечениях, но и социальные – в самоидентификации, интеграции и социальном взаимодействии (Katz, Blumler, Gurevitch, 1973). Ключевое изменение состоит в возможности удовлетворения социальных потребностей личности путем медийно опосредованного взаимодействия с другими людьми в медиапространстве.
Будучи социальным институтом, массовая коммуникация традиционно рассматривалась исследователями в качестве одного из агентов социализации личности в рамках вторичной социализации, то есть на этапе формирования юношеской и зрелой личности. Массовая коммуникация как агент социализации в период детства практически не рассматривалась. Сегодня можно говорить о медиасоциализации как одном из ключевых процессов социального становления и развития личности на всех этапах. Его понимание не может ограничиваться границами вторичной социализации, а должно рассматриваться и в рамках первичной социализации, то есть интегрально. На раннем этапе социализации, в детстве, особенно велика роль неинституциональных агентов – значимых других фигур: родителей, членов семьи, которые оказывают наиболее сильное воздействие на ребенка. Медиакоммуникационная среда наполнена медиатизированными значимыми другими фигурами, которые, участвуя в социальных взаимодействиях, выступают агентами первичной социализации наряду с членами семьи социализанта.
В процессе медиапотребления происходит не только социализация личности, но и ее самоактуализация – процесс, связанный с развитием человеком всесторонних аспектов личностного потенциала, иерархически высшая потребность личности, активизирующаяся во взаимодействии с социальной средой. Она проявляется одновременно в творческой и социальной активности через различные формы самовыражения личности в цифровой медиакоммуникационной среде – самодетерминации (признаки автономии, компетентности и принадлежности) (Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017).
Эффект фрейминга, представляющий собой второй уровень теории установления повестки дня, предполагающий, что аудитория воспринимает медиасообщения рамочно, шаблонно, на основе взаимодействия личного, социального опыта и представленности темы в медиа, сегодня эмпирическими исследованиями не всегда подтверждается (Guo & McCombs (eds), 2016).
Сегодня исследователи выделяют третий уровень установления повестки дня. Аудитория реагирует не на конкретное медиасообщение, а на их совокупность. В процессе медиапотребления выстраивается не бихевиористская модель «стимула – реакции», а когнитивная модель «медиасообщение – социальный опыт – личный опыт – медиатизированный опыт – память-опыт – эмоции – чувства и т. д.), то есть целая цепь процессов, которые формируют связь между смысловым и эмоционально-чувственным восприятием медиапубликаций, не на уровне словесных формулировок, а на уровне ассоциативных рядов, а также когнитивных переживаний (Guo & McCombs, 2011(a); Guo& McCombs, 2011(b)).
В вопросе определения силы медиаэффектов и медиавоздействия следует обращать внимание на устойчивость ценностно-мировоззренческих структур общества. Российская медиакультура имеет защитные механизмы и относится к типу культур, обладающих достаточно сильным иммунитетом: активно усваивая внешние атрибуты других культур, Россия остается устойчивой в плане изменения содержания традиционных культурных ценностей11.
Медиа оказывают влияние на индивида и социум преимущественно в рамках более весомых и влиятельных социальных процессов немедийной природы. Социальная динамика детерминирует и медиапотребление, и потенциал медиавоздействия. Фреймы, содержащиеся в медиа, вызывают не столько согласие с этим фреймом, сколько когнитивный эффект, который срабатывает в качестве медиатехнологии.
Заключение
Разделить социальное, медийное и языковое в вопросе идентификации и определения силы м едиаэффектов и медиавоздействия затруднительно. Следует обращать внимание на интеграцию медиа в социальную среду и культурное пространство повседневной жизни современного человека, а также на реализацию социальной роли, одобряемой сообществом, которую выбирает представитель аудитории в процессе медиапотребления (использование, интерпретация и производство содержания).
Социальное продолжает доминировать и сохранять приоритетное право в сфере формирования картины мира. Медиа оказывают влияние на индивида и социум преимущественно в рамках более весомых и влиятельных социальных процессов – таких, как социализация и инкультурация в пространстве физической социальной реальности.
Восприятие аудиторией медиасообщений уже не ограничивается верификацией вербальной коммуникации. Исследователи оценивают когнитивные реакции, следующие из взаимодействия реципиента с медиа, то есть весь ход мыслей, ассоциаций и переживаний, которые вызывает это взаимодействие.
Медиаисследования нуждаются в развитии когнитивной парадигмы научного знания (когнитивная психология и когнитивная лингвистика), где базовыми понятиями теоретико-методологического и эмпирического исследования будет взаимосвязь человека как представителя аудитории медиа и естественного языка, реализующегося в медийном пространстве.
Сегодня язык медиа интересен не только и не столько в речевом и языковом анализе, сколько в когнитивном, который предполагает через речь и язык изучить восприятие медиасообщения аудиторией (как произведенного другими авторами, так и продуцированного реципиентом текста), что требует привлечения знаний о таких когнитивных процессах, как память, ностальгия, переживание, воображение, чувственное восприятие, личный опыт и т. д., в процессе медиапотребления, что определит новый виток междисциплинарного анализа.
Примечания
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 22–18–00398).
2 Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. М.: Аналитический центр Vi. ООО «НИПКЦ Восход-А», 2014.
3 Вартанова Е. Л. Теория медиа: отечественный дискурс. М.: Изд-во Моск. ун-та. Фак. журн. МГУ, 2019.
4 Анненкова И. В. Современная медиакартина мира: неориторическая модель (Лингвофилософский аспект): автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2012.
5 Вартанова Е. Л. Теоретическая концепция медиасистемы как отражение конфликтного противостояния глобального и национального // Меди@льманах. 2023. № 4. С. 8–19.
6 Клушина Н. И. Интенциональные категории публицистического текста: на материале периодических изданий 2000–2008 гг.: автореф. дис д-ра. филол. наук. М., 2008.
7 Там же.
8 Там же.
9 Вартанова Е. Л. Теория медиа: отечественный дискурс. М.: Изд-во Моск. ун-та. Фак. журн. МГУ, 2019.
10 Вартанова Е. Л. Развивая понимание медиа: от технологий к социальному пространству // Меди@льманах. 2020. № 5 (100).
11 Полуэхтова И. А. Американское кино как средство культурной экспансии / дисс... на соискание уч. степени канд. соц. наук по спец. 22.00.06 – социология культуры, образования, науки. М.: 1993.
Библиография
Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Cабашниковых, 1996.
Бахтин М. М. Cлово в романе // Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. C. 132—179.
Борисенко И. В. Национальный образ России: философско-культурологический анализ: автореф. дис канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2008.
Водак Р. Взаимосвязь «Дискурс общество»: когнитивный подход к критическому дискурс-анализу. Политическая лингвистика. 2006. № 7(19). С. 107–116.
Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений. В 6 томах. Т. 3. М.: Педагогика, 1983.
Гиренок Ф. И. Философское истолкование принципов трансмедийного повестования // Философия трансмедиа. Коллективная монография / под ред. Н. Н. Ростовой. М.: Проспект, 2022.
Гринев И. В. Роль национальной российской культуры в формировании международного имиджа страны: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2009.
Грудева Е. А., Кизилова Н. И. Лексический фрейм как тип лексического концепта (на примере фрейма «Вооруженное столкновение»). Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6–3 (72). С. 95–98.
Гусейнов Г. Ч. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. М.: Три квадрата, 2003.
Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.
Деланда М. Новая философия общества. Теория ассамбляжей и социальная сложность. Пермь: Гиле Пресс, 2018.
Ерофеева М. А. Акторно-сетевая теория и проблема социального действия. Социология власти. 2015. № 27 (1). С. 17–36.
Журавлев C. A. Идеологемы и их актуализация в русском лексикографическом дискурсе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2004.
Иссерс О. С. Дискурсивная практика как наблюдаемая реальность. Вестник Омского университета, 2011. № 4. С. 227–232.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2000.
Коэн Т., Иванова Е., Травкина Н., Чапаев А., Фиолетовое С. Конец привычного мира. Путеводитель журнала «Нож» по новой этике, новым отношениям и новой справедливости. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
Купина Н. A. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 1995.
Купина Н. A. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня / РAН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. М.: Aзбуковник, 2000. Вып. 1. C. 182—189.
Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
Леонтьев А. Н. Проблема развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Маковский М. М. Язык – миф – культура: Символы жизни и жизнь символов. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1996.
Малышева Е. Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика. 2009. Вып. 4 (№30). C. 32–41.
Меньшикова Е. Е. Идеологемы в туристическом нарративе. Политическая лингвистика. 2011. № 4. С. 229–235.
Мердок Дж. П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003.
Микляева А. В. Социальный конструкционизм: взгляд с позиции психолога // Герген К. Дж. Социальная конструкция в контексте. Харьков: Гуманитарный Центр, 2016.
Мурзин Л. H, Штерн A. C. Текст и его восприятие. Cвердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991.
Никонова Ж. В. Лингвокогнитивная природа фрейма. Вестник Университета Российской академии образования. 2008. №5. С. 38–41.
Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998.
Плакроуз Х., Линдси Дж. Критические циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого. М.: Individuum, 2022.
Солдатова Г. У., Войскунский А. Е. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18. № 3. С. 431–450.
Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017.
Татару Л. В. Точка зрения и ритм композиции нарративного текста (на материале произведений Дж. Джойса и В. Вулф): автореф. дис д-ра. филол. наук. Cаратов, 2009.
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие. М.: Aспект Пресс, 1996. С. 186.
Чудинов A. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: моногр. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2003. С. 43–44.
Couldry N. (2008) Actor Network Theory and Media: Do They Connect and on What Terms? In: Hepp A. Krotz F. Moores Sh., Winter C. (eds.) Connectivity, Networks and Flows: Conceptualizing Contemporary Communications. Cresskill, NJ: Hampton Press. Pp. 93–110.
Guo L., McCombs M. (2011) Network agenda setting: a third level of media effects. International Communication Association annual conference, Boston.
Guo L., McCombs M. (2011) Toward the third level of agenda setting theory: a network agenda setting model. Association for Education in Journalism and Mass Communication annual conference, St. Louis.
Guo L., McCombs M. (eds.) (2016) The power of information networks: new directions for agenda setting. New York: Routledge.
Katz E., Blumler J.G., & Gurevitch M. (1973) Uses and gratifications research. Public Opinion Quarterly, 37(4), 509–523.
Luhmann N. (2000) The reality of mass media. Stanford: Stanford University Press.
Как цитировать: Дунас Д. В. Медиапотребление как область междисциплинарного анализа // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2024. № 6. С. 115–135. DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.6.2024.115135
Поступила в редакцию 15.10.2024