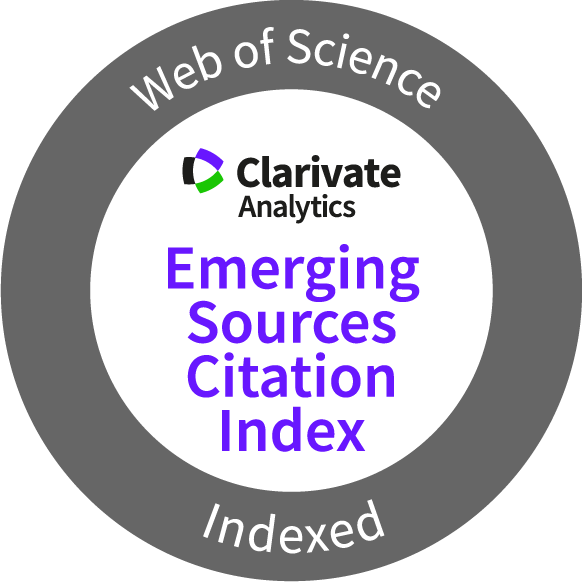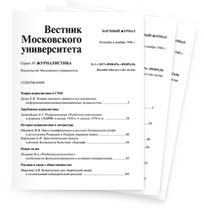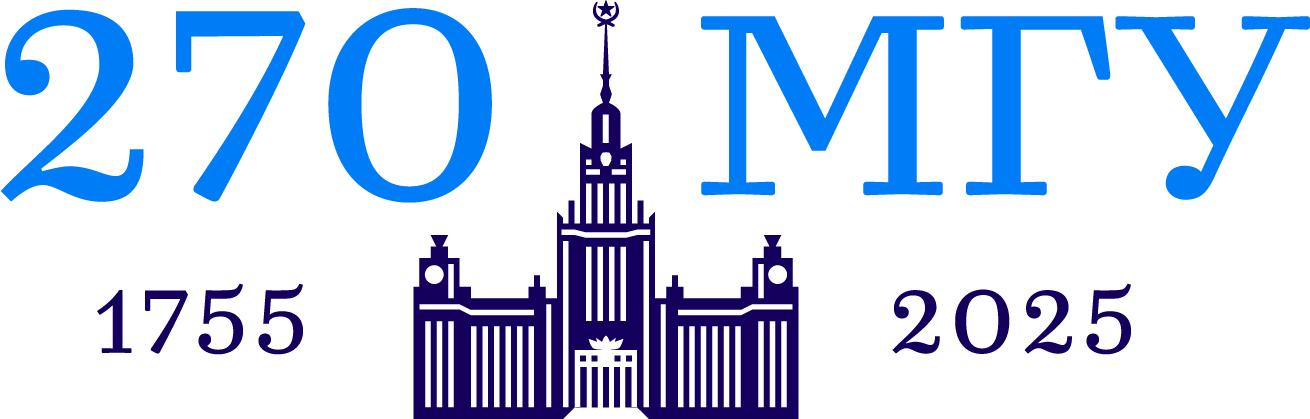Медиатизированная травма: теоретические и методологические основания для изучения
Скачать статьюдоктор филологических наук, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID 0000-0002-2798-7592
e-mail: a.v.vyrkovsky@gmail.comкандидат филологических наук, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID 0000-0003-3884-0112
e-mail: mashagarnova@gmail.comаспирант, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID 0009-0007-8287-5140
e-mail: mamedov.jeyhun@list.ruРаздел: Социология журналистики
В настоящей статье авторы поставили перед собой задачу исследовать ряд вопросов, относящихся к понятию «медиатизированная травма», условиям ее возникновения и проявлениям. В научной литературе указывается на устойчивую связь медиапотребления потенциально травмирующего информационного контента о катастрофах, терактах, войнах и пр. с проявлением у людей тревожности, посттравматических симптомов и других негативных последствий. Развитие онлайн-платформ качественно изменило современное медиапотребление: аудитория получила неограниченный доступ к потенциально травмогенному контенту. Таким образом, изучение особенностей возникновения и бытования опосредованной травмы в условиях глубокой медиатизации представляется крайне важным. Авторы провели восемь экспертных интервью со специалиста- ми, работающими с психологическими травмами. По мнению психологов, по форме возникновения и последующего развития медиатизированная травма является вариантом «травмы свидетеля». Особенной силой воздействия на психику обладает визуальный контент. Психологическое травмирование аудитории во многом зависит от того, как авторы конструируют видеоряд, какие смыслы в него изначально заложены. Степень травматизации зависит от «психологического профиля» конкретного человека, его эмоциональной устойчивости и подготовленности. Проявления медиатизированной травмы характеризуются повышенным уровнем тревоги, бессонницей, эмоциональным возбуждением, потерей чувства защищенности и контроля над собственной жизнью.
DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.6.2024.136157Введение1
Современный этап развития общества характеризуется беспрецедентным уровнем медиатизации (Hjarvard, 2008; Hepp, Krotz, 2014): люди фактически формируют знание об окружающем мире не на основе собственного опыта, но на базе информации, получаемой в различной форме из разнообразных медиа – печатных, электронных, онлайновых. По сути дела, «проживание» жизни в медиа может рассматриваться как некий субститут бытия: опыт потребления и использования опосредованной, медийной информации становится первичным, в то время как опыт реальной жизни вполне может оказаться на втором месте (Couldry, Hepp, 2016).
Не погружаясь в обсуждение теоретических аспектов медиатизации, важно отметить следующее: за последнее десятилетие установилось окончательное доминирование социальных сетей/платформ как места получения информации, общения, развлечения2.
И поскольку «потребление», познание мира через медиа у большей части социума стало основным способом получения жизненного опыта, возникает закономерный вопрос: насколько трансформировались коллективные и индивидуальные результаты, эффекты человеческого познания? В частности, психология «человека медийного» наверняка должна отличаться от той, что была актуальна многие столетия – и новизна феномена тотальной медиатизации порождает множество вопросов о специфике этих отличий.
Одним из самых очевидных последствий медиатизации является практически мгновенное, беспрепятственное распространение информации самого разного рода (Castells, 2012). Согласно теории использования и вознаграждения (uses and gratification), обращение к тому или иному источнику информации, потребление того или иного контента должно приносить потребителю некие «вознаграждения»: ощущение осведомленности, удовольствие и релаксацию, материальную и нематериальную выгоду и т. п. (Katz, Blumler, Gurevitch, 1973; Katz, Gurevitch, Haas, 1973). Однако значительная часть потребляемого ныне контента на первый взгляд не просто не полезна потребителю, но наносит ему ощутимый вред.
Речь, в частности, идет о контенте, который порождает столь сильные негативные эмоции, что способен нанести человеку так называемую психологическую травму, вызывающую последующие страдания (отметим, что в рамках данной статьи мы сосредотачиваемся на информационном контенте, основанном на фактах, –художественный, развлекательный и пр. остаются вне исследовательских рамок). Причем доступность контента такого рода начала расти еще до «платформизации» медиасистем: «С появлением 24-часовых телевизионных новостей информация о массовом насилии и стихийных бедствиях, доставляемая через медиа, стала еще более доступной» (Neria, Sullivan, 2011: 1374). В настоящее же время доступ к такому контенту на онлайновых платформах фактически неограничен.
Теории травмы (trauma studies) в психологии посвящен огромный корпус работ. Тем не менее в контексте современного медиатизированного общества этот список может и должен быть дополнен – хотя бы потому, что изменился способ доставки травмирующего впечатления: из непосредственного он стал медиатизированным.
Травма и медиа: постановка проблемы
Теорию психологической травмы принято начинать с работ З. Фрейда, который писал о ней как о «ранее пережитых и позднее забытых впечатлениях», приводящих к психологическим расстройствам (1993). Природой травмы, таким образом, является порожденное внешним насилием сильное переживание, которое влияет на психические процессы (Pinchevski, 2016).
Психологическая травма стала активно изучаться в конце XIX в. Исторические события XX в., сопровождавшиеся массовым насилием: в частности, Первая и Вторая мировые войны, война во Вьетнаме и пр. – послужили драйверами, вызвавшими всплеск исследовательского и общественного интереса к теме.
Ранние концепции травмы в подавляющем большинстве ограничивались рассмотрением травмирующего опыта только как прямого и непосредственного – более сложные его формы оставались вне поля зрения. Однако вскоре стало ясно, что симптомы травмы могут передаваться из поколения в поколение: об этом свидетельствовал, например, опыт переживания Холокоста (Herzog, 1982).
Медиатизация и, соответственно, травмирование с помощью массмедиа еще больше сместили фокус внимания исследователей и психологов с прямой передачи травмирующих переживаний на опосредованную, косвенную (Pinchevski, 2016). Можно сказать, что травма становится все более «медиатизированной». И непрямой способ передачи травмирующих впечатлений уже фиксируется в программных медицинских документах. Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM-V) Американской психиатрической ассоциации, посттравматическое стрессовое расстройство может быть вызвано опосредованно, вследствие просмотра травмирующих видео или изображений, если этот просмотр связан с выполнением рабочих обязанностей3.
В самых последних академических работах также отмечается имманентная связь медиа и травмы: «Отношения между медиа и травмой не только исторические, но и концептуальные, поскольку саму травму можно рассматривать как “медийную концепцию”
<…> Литература о травмах изобилует медийными метафорами: травматический отпечаток, необработанная память, бессознательная регистрация, воспоминания, навязчивые образы и передача травмы. При лечении посттравматического стрессового расстройства иногда используются медиа <…> Эти методы опираются на структурное сходство между навязчивым повторением травмы и технологическим воспроизводством медиа» (Pinchevski, 2016: 54).
В современном контексте само по себе переживание травмирующего опыта и работа с травмой невозможны без участия медиа. В этой парадигме концепт травмы можно рассматривать только в комбинации ряда культурных (culture) методов ее создания: физических объектов, знаний, технологий, практик, которые как раз поддерживают травмированное состояние (Там же). Иными словами, в современных условиях без медиа нет травмы как таковой.
Впрочем, поскольку данная работа посвящена травме, связанной с медиапотреблением, в ней не будут анализироваться многочисленные исследовательские подходы, занимающиеся ее исследованием в медицинской, психологической, культурологической и пр. парадигмах. Цель данного труда – скорее поставить вопросы, чем дать однозначные ответы.
Как было сказано выше, последствия травмы в настоящее время описываются, прежде всего, психологическими и медицинскими терминами, такими как посттравматическое стрессовое расстройство (posttraumatic stress disorder, PTSD)4, симптомы посттравматического стресса (posttraumatic stress symptoms, PTSS) (Pfefferbaum, Nitiéma, Newman, 2019). В числе эффектов воздействия травмирующего контента называются также острые стрессовые реакции (acute stressreactions, ASR) (Holman, Garfin, Lubens, Silver, 2020; Pfefferbaum, Nitiéma, Newman, 2019). Надо отметить, что зачастую последствия воздействия травмирующего контента «не укладываются» в диагноз «посттравматического стрессового расстройства» в его классической медицинской трактовке5, являясь дисфункциями иного рода – в частности, депрессией и тревожностью (depression, anxiety) (Bonanno, Brewin, Kaniasty et al., 2010; Tang, Liu, Liu et al., 2014). И, несмотря на то что эти расстройства нельзя назвать «травмой» в строгом смысле слова, многие исследовательские школы включают их в контекст изучения травмы, полученной в результате потребления медийного контента (Pfefferbaum, Nitiéma, Newman, 2021).
Большая часть современных исследований однозначно указывает на связь медиапотребления контента, содержащего потенциально травмирующие элементы (например, информацию о катастрофах, террористических актах, войнах и пр.), с появлением симптомов травмы и иных негативных последствий – тревожности и пр. (May, Wisco, 2016; Holman, Garfin, Lubenset al., 2020; Pfefferbaum, Nitiéma, Newman, 2021; 2019; Abdalla, Cohen, Tamrakar et al., 2021). Медиатизированная травма, судя по всему, оказывает меньшее влияние на людей, нежели прямая, однако особенности ее проявления до сих пор требуют дополнительного изучения (May, Wisco, 2016).
В числе факторов, которые могут влиять на последствия медиатизированной травмы, рассматриваются, в частности, природа травмирующего события (техногенное или естественное), частота событий (регулярное/постоянное или единичное), возраст представителей аудитории, территориальная близость события к потребителям информации, характер медиа (телевидение и пр.), детализированность освещения события, частота контактов с контентом медиа. Наиболее значимым фактором интенсификации последствий травмы называется частота контактов с контентом (Pfefferbaum, Nitiéma, Newman, 2019).
Отдельно надо отметить, что подавляющий объем литературы о медиатизированной травме посвящен визуальному контенту (в частности, видео), презентация которого чаще всего рассматривается как основной или даже единственный травмирующий механизм (Neria, Sullivan, 2011): «Основная идея <…> заключается в связи между визуальными медиа и современными концепциями травмы <...> Опосредованная травма априори включает в себя участие визуальных медиа» (Pinchevski, 2016).
Однако надо иметь в виду, что травмирующее воздействие медиа может быть не только прямым – через потребление контента как такового, но и косвенным: медиа, в том числе и социальные, становятся триггером и площадкой для обсуждения травмирующих событий, базой для создания и функционирования соответствующих сообществ, что консервирует и, возможно, усугубляет последствия травмы (Meek, 2009).
Таким образом, некоторая база литературы о роли медиа в формировании травмы у аудитории сформирована – тем не менее еще раз вернемся к положению, высказанному в начале статьи: последнее десятилетие стало периодом беспрецедентных изменений медиасистем, связанных с развитием цифровых платформ и формированием колоссальной по масштабу системы распространения контента, созданного неинституционализированными производителями – блогерами, стримерами, инфлюэнсерами в широком смысле6.
Может ли данный контекст оказывать качественное воздействие на онтологию медиатизированной травмы? Радикально снизившийся порог доступа на рынок производства контента дает аудитории возможность неограниченно потреблять принципиально новый контент, не соответствующий сложившимся за столетия развития массмедиа конвенциональным правилам и законодательным ограничениям и часто обладающий травмогенным потенциалом. Данная работа призвана поднять вопросы о новых механизмах создания медиатизированной травмы и, естественно, о возможных последствиях для пользователей медиа.
Работы, посвященные травме, создаваемой контентом социальных медиа, сравнительно редки. В целом в них подтверждается связь между потреблением контента на цифровых площадках и усугублением посттравматических симптомов (Abdalla, Cohen, Tamrakar et al., 2021; Mahamid, Berte, 2020), однако ряд характеристик, описывающих последствия травмы, не позволяет говорить об идентичности механизмов ее формирования тем, что были свойственны традиционным (legacy) медиа – телевидению и пр. Так, одним из мощных факторов, усугубляющих симптомы посттравматического стресса после просмотра телепередач, стал просмотр видео в социальных медиа, но еще более усилило этот эффект распространение представителями аудитории видеороликов с травмирующим контентом (Abdalla, Cohen, Tamrakar et al., 2021).
Радикально выросшая активность аудитории современных медиа (Napoli, 2011) ставит принципиально новые вопросы перед исследователями медиатизированной травмы: например, насколько получение травмирующего контента в социальных сетях от привычных источников информации (друзей, членов онлайн-сообществ, инфлюэнсеров и пр.) влияет на итоговую проявленность посттравматических стрессовых симптомов и иных психических и психологических расстройств?
Качественное изменение уровня активности аудитории принципиально важно в контексте переизбытка медийного контента (Deuze, Fortunati, 2011)7 – самостоятельное принятие многочисленных решений по выбору того или контента на электронных платформах8 ставит вопросы о том, почему представители аудитории часто добровольно выбирают для потребления (а после, возможно, и для распространения) травмирующий контент.
Не менее важен еще один момент – фрагментация аудитории, исчезновение общего круга тем и проблем, формируемых медиа (Napoli, 2011). Де-факто каждый пользователь онлайн-платформ создает себе собственную картину мира, состоящую в том числе из травмирующих событий. И если раньше феномен травмы интерпретировался чаще всего исходя из ее «коллективной» природы (Holman, Garfin, Lubens et al, 2020; Eriksson, 2016), то сейчас концепт «коллективной травмы» должен быть обновлен.
Таким образом, данная статья призвана, прежде всего, задать вопрос: есть ли основания говорить об изменении онтологии травмы в условиях тотальной медиатизации? А. Пинчевски пишет, в частности, о росте интереса к опосредованной памяти, которая с одной стороны, получила возможность неограниченного распространения с помощью технологий медиа, а с другой – столь же неограниченно вырос и потенциал мультипликации травматических воспоминаний, до настоящего время запертый в архивах, библиотеках, коллекциях медиа (Pinchevski, 2011). Изменит это сколь-либо существенно жизнь современного социума? Очевидно, исследования онтологической трансформации травмы в условиях медиатизации должны вестись, прежде всего, в направлении новых факторов ее возникновения, а также новых последствий получения травмирующих впечатлений – как количественных, так и качественных. Это естественным образом подводит к формированию перспективного списка исследовательских направлений, которые, в свете потенциального роста распространенности посттравматических стрессовых симптомов и иных расстройств на фоне взрывообразного развития онлайн-платформ, могут помочь снизить психические и психологические потери социума (Abdalla, Cohen, Tamrakar et al., 2021).
Методика исследования
Постановочный характер данной статьи определил инструмент исследования – экспертные интервью со специалистами, занимающимися работой с психологическими травмами. Рекрутинг экспертов производился, прежде всего, исходя из их профессиональных интересов, которые выявлялись путем поиска соответствующих научных и/или специализированных публикаций, а также выступлений на конференциях, фиксации области интересов в открытых профайлах экспертов. Всего в исследовании согласились принять участие восемь ученых и практикующих психологов:
1. Е. Вотрина-Лопатина – психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии;
2. Н. Кисельникова – кандидат психологических наук, психолог-исследователь, заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Образовательного центра «Психодемия»:
3. Т. Колесник – клинический психолог, главный аналитик ФРЦ РАО, кризисный консультант, практический психолог, внештатный эксперт РО РКК;
4. О. Кравцова – кандидат психологических наук, психолог, автор и тренер проекта «Психология стресса для журналистов»;
5. Л. Пыжьянова – кандидат психологических наук, кризисный психолог, психолог Детского хосписа «Дом с маяком», в прошлом – психолог МЧС России;
6. А. Сорин – кандидат психологических наук, доцент МГМУ им. И.М. Сеченова, детский и подростковый психолог, генеральный директор Психологического центра «Квартет»;
7. А. Тхостов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова;
8. М. Фокеева – кандидат философских наук, исследователь феномена коллективной травмы, психотерапевт.
Интервью в основном проводились в апреле–мае 2024 г. в формате face-to-face, их продолжительность составляла от 25 до 70 минут. Два интервью были взяты в письменном виде (с Е. Вотриной-Лопатиной, Т. Колесник), еще два – в формате аудиоответов на письменные вопросы (с Л. Пыжьяновой и Н. Кисельниковой).
Для обсуждения экспертам предлагались три основных вопроса:
1) что такое медиатизированная травма и чем она отличается от обычной, 2) каковы (новые) факторы возникновения медиатизированной травмы в современном контексте, 3) каковы (новые) последствия/проявления медиатизированной травмы в современном контексте и чем они отличаются от «обычных».
В расшифрованных интервью выделялись отдельные смысловые блоки, они систематизировались и группировались. Безусловно, мы отдаем себе отчет о том, что в данном случае речь идет действительно лишь о постановке вопросов – ответы на них должны быть даны в исследованиях, построенных на описанном нами фундаменте.
Результаты исследования
Один из ключевых вопросов, который в рамках настоящего исследования был поставлен авторами, заключался в определении опрошенными экспертами – теоретиками и практиками – понятия «медиатизированная травма» в современном контексте. Большая трудность, с которой столкнулись авторы, заключалась в отсутствии единого подхода к формулировке данного термина. В частности, эксперты упоминали и «медиатизированную травму», и «травму свидетеля», и «травму наблюдателя», и «викарную травму», и «психологическую травму», и «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР), и «информационный стресс», и «медиатравму». Отсутствие единого видения в обозначении термина, на наш взгляд, говорит о малоизученности данного явления в рамках отечественных академических исследований. В настоящей статье, учитывая ее постановочный характер, мы будем использовать термин «медиатизированная травма», как наиболее подходящий для описания изучаемого объекта.
В частности, один из экспертов считает, что сегодня под психологической травмой стали понимать «не только то, что человек сам был участником трагических событий или жертвой, но и оказывался в ситуациях, когда он видел это <…> наблюдал» (Э8). Еще два эксперта говорят о «травме свидетеля», делая акцент на косвенном участии человека в событии, которое он непосредственно наблюдал, в том числе через медиа (Э4, Э5), хотя и не был участником его.
Эксперты указывают на своеобразие медиатизированной травмы в настоящее время. Так, один из них говорит о том, что распространение информации в эпоху тотальной интернетизации существенно отличается от того, что было раньше, и это, безусловно, влияет на восприятие новых фактов потенциальной аудиторией (Э7). По мнению одного из специалистов, усилению психологической травмы может способствовать растиражированность событий, что как раз характерно для медиа (Э8). По мнению другого эксперта, современные медиа стали гораздо больше вовлекать людей в свою повестку, что порой приводит человека к сильным эмпатическим переживаниям, выключающим его из повседневности, а также приводящим к симптоматике сильного стресса (Э6). По словам одного из специалистов, человек может адаптироваться к ежедневному стрессу, однако стресс «тоже может сломать, когда его слишком много» (Э4). Психологическая же травма, по мнению эксперта, «это как раз то, что по определению нас “ломает”, ранит, разрывает нашу некую целостность, после которой нужно себя собирать заново» (Э4).
Судя по всему, медиатизированная травма может быть очень глубокой, сопоставимой с той, что получена непосредственно. По мнению одного из экспертов, непосредственно работавшего психологом с пострадавшими во время трагедий и катастроф, «<…> телезрители получают психологическую травму практически на уровне очевидцев и наблюдателей» (Э3). И у аудитории «те же реакции, и психологическая помощь в целом им нужна такая же, как и людям, лично находящимся где-то в районе чрезвычайной ситуации и непосредственно видевшим произошедшее» (Э3).
Практикующий психолог считает, что «медиатизированную травму можно принять тождественной понятию “информационный стресс”. В самой простой житейской интерпретации информационный стресс – это перегруз информацией, который в хроническом эквиваленте становится информационной (медиатизированной) травмой, когда речь идет, например, о трагической информации, угрожающей повседневной обыденной жизни человека» (Э2).
При этом один из психологов говорит о том, что «воздействие сюжета на психику не прекращается от того, что мы выключили телефон, компьютер» (Э1). У аудитории активируются противоположные, амбивалентные чувства: человек испытывает ярость, заботу, жалость, гнев, страх одновременно, что, по мнению специалиста, очень «затратно» для нашей психики (Э1).
Таким образом, можно говорить о том, что медиатизированная травма – сложное и многогранное явление, возникающее в момент информирования (особенно визуализированного) аудитории о событиях трагического, экстремального характера и сопровождающееся сильным эмоциональным потрясением человека, сравнимым с «травмой свидетеля» на месте происшествия, которое приводит к глубокому посттравматическому стрессовому расстройству. Как говорит один из экспертов, «травма в целом – родовое понятие, травма свидетеля — следующий уровень, видовой, а медиатизированная травма и викарная травма — подвиды травмы свидетеля» (Э4). При этом есть явные признаки того, что современный контекст, сформированный наличием огромного объема информации на онлайн-платформах и ее доступностью, может менять механизмы опосредованного травмирования.
Второй поставленный авторами статьи вопрос был связан с факторами возникновения медиатизированной травмы в современном контексте. Эксперты практически единодушны в том, что роль традиционных СМИ и новых медиа в формировании психологической травмы у аудитории чрезвычайно высока.
Один из значимых названных психологами факторов – особенности формирования медиа «повестки дня». Медиатизацию травмы у аудитории эксперты в том числе связали с принципами отбора контента для публикации – в частности, с журналистскими методами работы с контентом и отбором наиболее подходящих моментов и кадров для демонстрации зрителю в рамках сюжетов. Один из экспертов, в частности, говорит о том, что «травматизация телезрителей может быть даже более активная, чем у очевидцев и наблюдателей» (Э3). Эксперт связывает это явление с тем, что очевидцы на месте события видят его таким, каким оно было, от начала и до конца, в том числе «скучные» моменты, а телезрителям предлагаются самые яркие кадры, которые в совокупности и концентрированности в рамках одного репортажа способны вызвать даже более сильные эмоции (Э3). Схожей позиции придерживается еще один эксперт, который говорит о том, что «визуальный образ всегда сильнее слова, а мы не знаем, кто снимал этот кадр, откуда его отобрали, в каких целях, но нам кажется, что это всегда более убедительно, поэтому и теленовости всегда убедительнее, чем рассказ» (Э8).
Это значит, что принципиальное значение имеет то, как подают информацию о трагедиях в медиа. Например, включение в сюжет сведений о спасении пострадавших и об оказываемой им помощи, о планах по предотвращению подобных ситуаций в будущем способно психологически «уравновесить» подобные материалы. Один из экспертов считает, что аудитории «нужно за что-то зацепиться, какую-то устойчивость придать даже самой ужасной информации, внести элемент контроля – он важен нашей психике» (Э1).
Один из психологов говорит, что свидетель события все же психологически страдает больше, чем просто зритель, однако делает оговорку: «<…> тонкий момент заключается в том, что люди очень разные с точки зрения индивидуальной устойчивости» (Э4). Соответственно, еще одним важным фактором возникновения медиатизированной травмы можно считать степень «подготовленности» человека к увиденному вживую или же через медийный контент. Один из экспертов даже рассуждает об условном разделении аудитории на разные сегменты по пережитому ранее опыту (Э7). В то же время немаловажным фактором будет устойчивость психики конкретного человека и его способность к «переживанию» негативного опыта. Например, один из экспертов говорит о том, что «есть люди, которые остаются внутри этого травматического опыта навсегда, и <…> этот травматический опыт постоянно болезненно перебирают» (Э7). Практически об этом же говорит еще один эксперт: «Люди с развитой эмпатией чаще травмируются. Интересно, что именно эмпатичные люди следят за трагическими сюжетами в СМИ и травмируются сильнее остальных» (Э1). Эксперты выделяют особое психологическое состояние конкретного человека и попадание информации из медиа в его собственные «болевые точки» и перенесенные травмы: «<…> люди с опытом домашнего насилия или пережившие пожары, авиакатастрофы, военный опыт и т. д. могут не выдержать сюжеты на эти темы» (Э1), «<…> вероятность того, что травма возникнет, тем выше, чем более неожиданно это столкновение, чем более неподготовлен человек к восприятию такой информации, чем ближе это к его опыту» (Э5).
По мнению экспертов, при непроработанности подобных травм у человека существует большой риск ретравматизации (Э1). «<…> Самые тревожные, невротизированные люди, которые не смогут оторваться от экранов, которые будут везде искать информацию <…> однозначно еще больше повышать свой уровень тревоги <…> это та самая группа пострадавших» (Э3). Однако в отличие от тех, кто непосредственно был на месте трагедии, представителям аудитории не будет оказана необходимая психологическая помощь.
Один из экспертов (Э2) в целом выделяет две группы факторов возникновения медиатизированной травмы в современном контексте. Первая – «огромные потоки информации, которые нельзя проверить, плюс потоки информации, не содержащие фактической информации, но имеющие признаки оценок, мнений, интерпретаций и т. д. с внешней стороны» (Э2). Вторая группа факторов, выделяемых экспертом, относится к стороне потребителя травмирующей информации – аудитории: «<…> значения психического профиля, располагающие к возникновению потребности в информации, позволяющей создать иллюзию контроля текущих обстоятельств жизни» (Э2).
Опрошенные эксперты подтверждают, что видеоряд и отчасти аудиосопровождение воздействуют на аудиторию гораздо сильнее, чем текст, – и сильнее травмирует. Причина этого – в потенциале создания ярких образов, которые вызывают сильные эмоции: «На психический процесс влияют не столько знаки, сколько эмоциональный ряд и те образы, которые при этом возникают» (Э7), «<…> когда мы слышим рассказ, это одно дело, а если мы слышим какую-то запись, там, крики, удары, то совсем иначе действует» (Э8).
Третий вопрос, поставленный авторами статьи, касался проявлений медиатизированной травмы в современном контексте. В экспертных интервью опрошенные психологи – теоретики и практики – в основном выделяют следующие последствия получения медиатизированной травмы: мучительные эмоции, которые сложно регулировать, ночные кошмары, бессонница, перевозбуждение, страх, гнев, потеря базового чувства безопасности, контроля над ситуацией, беспомощность, тревожность, депрессивные проявления, бессилие что-либо изменить, снижение работоспособности, физические недомогания, повышенная усталость и др. Один из экспертов подчеркивает, что «<…> переживания станут именно травмой при недостаточности ресурсов человека для своей внутренней регуляции» (Э1). Другой эксперт говорит о возникновении чувства полной неопределенности, которое в итоге приводит к потребности «<…> непрерывного контроля времени, провоцирует выработку поведенческих автоматизмов (непрерывный контроль цифрового и медийного контента, СМИ и т. д.) <…>» (Э2). По его мнению, все это способно отвлечь человека от важных повседневных задач, нарушить функцию адаптации к объективной действительности, привести к симптомам физиологического стресса и характерным для зависимого медиапотребителя поведенческим паттернам (Э2). Один из психологов говорит о возникающем у зрителя чувстве беспомощности при встрече со смертью, пусть и опосредованно через медийный контент (Э3). Также можно хронологически обозначить развитие острых эмоциональных реакций «свидетеля»: «<…> сначала шок, потом признаки острого стресса, признаки травмы, а потом признаки ПТСР <…>» (Э5). То есть «травматический опыт не обязательно приводит к ПТСР – спектр ментальных проявлений, возникающих после него, очень широк» (Э6). Однако в любом случае медиатизированное восприятие трагических событий ведет как минимум к утрате чувства благополучия жизни, ощущению потери контроля над ней.
По мнению почти всех опрошенных экспертов, «медийный фон» способен сильно влиять на глубину психологической травматизации аудитории. В частности, один из экспертов отмечает, что «из-за развития медиа видимость насилия и количество его свидетелей выросли», несмотря на то что в зависимости от психологического профиля человека степень его вовлеченности в увиденное может быть различной (Э6). По мнению эксперта, этому в том числе способствует появление новых инструментов влияния на аудиторию: «фейки, вбросы, разговоры о фейках и вбросах, бесконечные обвинения» (Э6). Психолог считает хорошей практикой предупреждающее обозначение потенциально травмирующего контента в медиа (Э6). Подобные «флажки» дают человеку выбор – знакомиться или нет с данным, возможно шокирующим его контентом. Важность этой практики подтверждается и примером об освещении СМИ теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 г., приведенным одним из экспертов. Работая на «горячей линии» в тот момент, он и его коллеги сталкивались с сильно возросшим количеством обращений от людей, которые не понесли реальные потери, но были психологически травмированы тем, что увидели по телевизору (Э3). Психологи связывают этот факт со слишком натуралистичным показом данного теракта в СМИ, что, в свою очередь, сильно повлияло на травматизацию зрителей.
Возникающее у человека как одно из последствий медиатизированной травмы ощущение тревоги, по мнению экспертов, само по себе естественно. Однако, «когда страх и тревога начинают мешать жить нормально, это уже патология», – считает один из экспертов (Э8). Соответственно, человек, получивший медиатизированную травму и не способный самостоятельно справляться с возросшим уровнем тревоги, нуждается в помощи специалистов.
Важным аспектом, который стоит упомянуть, на наш взгляд, является то, что так называемая «травма свидетеля» характерна для многих категорий: зрителей по ту сторону экрана (наблюдателей), реальных свидетелей события (очевидцев на месте трагедии), представителей «помогающих» профессий (медиков, спасателей, кризисных психологов, силовиков и др.), журналистов, освещающих инфоповод. По большому счету, потребители информации травмируются об уже состоявшуюся «травму свидетеля» со стороны журналиста. Своеобразным эффектом профессионального погружения производителя контента в травмирующий контекст является «усталость сострадать». По мнению одного из экспертов, «есть радикальная форма психологической реакции, которая касается, например, социальных журналистов. Это угасание сострадания — когда человек теряет способность сострадать, будучи свидетелем огромного количества ужасных историй» (Э6).
Выводы и дискуссия
Таким образом, проявления и последствия медиатизированной травмы, в принципе, схожи с теми, которые возникают у человека при «обычной» травме – очевидно, нет оснований говорить о какой-то ее особой онтологии. Однако нынешний контекст, безусловно, актуализирует необходимость ее срочного глубокого изучения.
Даже в конце XX в. у людей не было такого количества доступных источников информации, как сейчас. Соответственно, многие травмирующие события «входили» в сознание людей весьма дозированно либо не входили вообще. Современный же человек окружен различными видами медиа – традиционными, новыми, официальными и неинституционализированными. Также необходимо акцентировать внимание на количестве технических устройств, через которые происходит процесс медиапотребления, по сути превращая его в круглосуточный непрерывный сеанс. И если от официально зарегистрированных СМИ закономерно ожидается соблюдение профессиональных принципов работы и этических кодексов, то неинституционализированные производители контента, заинтересованные в максимально активном привлечении аудитории на свои ресурсы, могут пренебрегать и достоверностью информации, и этичностью при демонстрации визуального ряда, и корректностью оценок происходящего, и информационным балансом.
Огромный объем контента, в том числе травмогенного, и новые способы работы с информацией – вот то, что опрошенные нами эксперты видят новыми факторами возникновения медиатизированной травмы. Это значит, что негативные последствия травмы могут быть радикально усилены за счет медийной «растиражированности» события, постоянного «присутствия» информации о нем в поле зрения человека, излишней натуралистичности визуального контента, публикации чужих реакций и оценочных суждений и комментариев.
Наше исследование входит в некоторое противоречие с работами, в которых отмечается более низкий уровень проявления медиатизированной травмы по сравнению с непосредственной (May, Wisco, 2016): ряд наших экспертов говорит о ее сопоставимости с травмой непосредственного свидетеля или даже участника. Нам представляется, что данный эффект может проявляться у отдельных категорий людей: эксперты уточняют, что очень многое зависит от того, насколько индивид психологически устойчив и «подготовлен» к восприятию негативных новостей. Аудитория по-разному переживает травмирующий опыт исходя из индивидуальных особенностей психики. Мы полагаем, это может стать перспективным направлением для дальнейших исследований.
Отдельным вопросом, который заслуживает дальнейшего изучения, может стать проблема активности представителей аудитории как в потреблении, так и распространении травмирующего контента. По сути дела, можно говорить о формировании у части аудитории особой тактики взаимодействия с таким контентом, которая заключается в постоянном – и, скорее всего, травмирующем еще больше – поиске и потреблении «тяжелой», «жестокой» информации. Нам представляется принципиально важным исследовать данный феномен, чтобы понять, какие люди и в каком контексте начинают такую тактику реализовывать.
Отдельно надо отметить, что на уровень последствий травмы сильно влияет репутация источника, через который произошло информирование человека о произошедшей трагедии, – и это актуализирует дальнейшее изучение уже отмеченного некоторыми учеными феномена травмы, полученной после потребления контента, присланного знакомыми в социальных сетях и мессенджерах (Abdalla, Cohen, Tamrakar et al., 2021).
Наше исследование подтверждает, что люди получают наиболее сильные травмы при взаимодействии с визуальным контентом (Neria, Sullivan, 2011). И здесь остро встает вопрос о принципах создания видеоряда. Важно, как именно подается в медиа информация о событиях трагического характера, как сконструирован видеоряд, какова концентрация в нем «ярких» моментов трагедии на единицу времени, есть ли в сюжете информация о помощи пострадавшим, о мерах по недопущению подобных ситуаций в будущем и пр. В зависимости от того, как медиа «подают» трагедии, человек может получить более или менее глубокую медиатизированную травму. И взаимосвязь различных вариантов построения травмогенного видеоряда с последствиями его просмотра, полагаем, еще одна перспективная для дальнейших исследований тема.
В контексте изучения травмы, получаемой аудиторией посредством медийного контента, стоит особо отметить (и, вероятно, вписать данный тезис в контекст возможной дискуссии) и травму самого журналиста, вынужденного чаще, чем его аудитория, становиться «свидетелем» трагических событий. На наш взгляд, травмирование самого журналиста будет непосредственно отражаться на производимом им контенте и, как следствие, на возможной травматизации аудитории. Однако данный вопрос также должен стать предметом отдельного изучения.
Примечания
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 22-18-00225).
2 Вырковский А. В., Макеенко М. И. Возможности влияния неинституционализированных производителей развлекательного и познавательного контента на аудиторию // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2021. № 5. С. 74–99. DOI: 10.30547/vestnik.journ.5.2021.7499
3 American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (fifth ed). Washington, DOI: 10.1176/appi.books.9780890425596.dsm07
4 Ibid.
5 American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (fifth ed). Washington, DOI: 10.1176/appi.books.9780890425596.dsm07
6 Вырковский А. В., Макеенко М. И. Возможности влияния неинституционализированных производителей развлекательного и познавательного контента на аудиторию // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2021. № 5. С. 74–99. DOI: 10.30547/vestnik.journ.5.2021.7499; Макеенко М.И., Вырковский А.В. Онлайн-производители развлекательного контента как участники социально-политических процессов // Меди@льманах. 2021. № 6. С. 24–31.
7 Вартанова Е. Л. Меняющаяся российская медиаиндустрия: теоретические подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 2. С. 186–196. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.203
8 Терченко Э. Б. (2021) Влияние публикаций в СМИ на принятие решений представителями российского делового сообщества // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2020. № 3. С. 3–28. DOI: 10.30547/vestnik.journ.3.2020.328
Библиография
Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия / Пер. с нем. и примеч. Р. Ф. Додельцева; послесл. К. М. Долгова. М.: Наука, 1993. С. 82.
Abdalla S. M., Cohen G. H., Tamrakar S., Koya S. F., Galea S. (2021) Media Exposure and the Risk of Post-Traumatic Stress Disorder Following a Mass traumatic Event: An In-silico Experiment. Front Psychiatry 12:674263. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.674263.
Bonanno G. A., Brewin C. R., Kaniasty K., Greca A. M. L. (2010) Weighing the Costs of Disaster: Consequences, Risks, and Resilience in Individuals, Families, and Communities. Psychological Science in the Public Interest 11(1): 1–49. DOI: 10.1177/1529100610387086
Castells M. (2012) Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge, Massachusetts: Polity Press.
Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press.
Deuze M., Fortunati L. (2011) Atypical newswork, atypical media management. In Deuze M. (ed.) Managing media work. London: SAGE.
Eriksson M. (2016) Managing collective trauma on social media: the role of Twitter after the 2011 Norway attacks. Media, Culture & Society 38(3): 365-380. DOI: 10.1177/0163443715608259
Hepp A., Krotz F. (2014) Mediatized worlds: Culture and Society in a Media Age. Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137300355
Herzog J. (1982) World beyond metaphor: Thoughts on the transmission of trauma. In: Bergmann M.S., Jucovy M.E. (eds) Generations of the Holocaust. New York: Basic Books. Pp. 103–119.
Hjarvard S. (2008) The Mediatization of Society. A theory of the media as agents of social and cultural change. Nordicom Review 29(2): 105-134. DOI: 10.1515/nor-2017-0181
Holman E. A., Garfin D. R., Lubens P., Silver, R.C. (2020). Media Exposure to Collective Trauma, Mental Health, and Functioning: Does It Matter What You See? Clinical Psychological Science 8(1): 111-124. DOI: 10.1177/2167702619858300
Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and gratifications research. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509—523.
Katz E., Gurevitch M., Haas H. (1973) On the use of the mass media for important things. American Sociological Review 38 (2): 164—181.
Mahamid F.A., Berte D.Z. (2020) Portrayals of Violence and At-Risk Populations: Symptoms of Trauma in Adolescents with High Utilization of Social Media. International Journal of Mental Health and Addiction 18: 980–992. DOI: 10.1007/s11469-018-9999-0
May C. L., Wisco B. E. (2016) Defining trauma: How level of exposure and proximity affect risk for posttraumatic stress disorder. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 8(2): 233–240. DOI: 10.1037/tra0000077
Meek A. (2009) Trauma and Media. Theories, Histories, and Images. 1st Edition. New York, Routledge
Napoli P.M. (2011) Audience evolution: New technologies and the transformation of media audiences. New York: Columbia University Press.
Neria Y., Sullivan G.M. (2011) Understanding the mental health effects of indirect exposure to mass trauma through the media. JAMA 306(12): 1374-5. DOI: 10.1001/jama.2011.1358.
Pfefferbaum B., Nitiéma P., Newman E. (2019) Is viewing mass trauma television coverage associated with trauma reactions in adults and youth? A meta-analytic review. Journal of traumatic stress 32: 175-185. DOI: 10.1002/jts.22391
Pfefferbaum B., Nitiéma P., Newman E. (2021) The association of mass trauma media contact with depression and anxiety: A meta-analytic review. Journal of Affective Disorders Reports 3. DOI: 10.1016/j.jadr.2020.100063.
Pinchevski A. (2011) Archive, Media, Trauma. In M. Neiger, O. Meyers, E. Zandberg (eds.) On Media Memory. Collective Memory in a New Media Age. Palgrave Macmillan London.
Pinchevski A. (2016). Screen trauma: visual media and post-traumatic stress disorder. Theory, Culture & Society33(4): 51-75. DOI: 10.1177/0263276415619220
Tang B., Liu X., Liu Y., Xue C., Zhang L. (2014) A meta-analysis of risk factors for depression in adults and children after natural disasters. BMC Public Health 14: 623.
Как цитировать: Вырковский А. В., Крашенинникова М. А., Мамедов Д. З. Медиатизированная травма: теоретические и методологические основания для изучения // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2024. № 6. С. 136–157. DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.6.2024.136157
Поступила в редакцию 05.07.2024