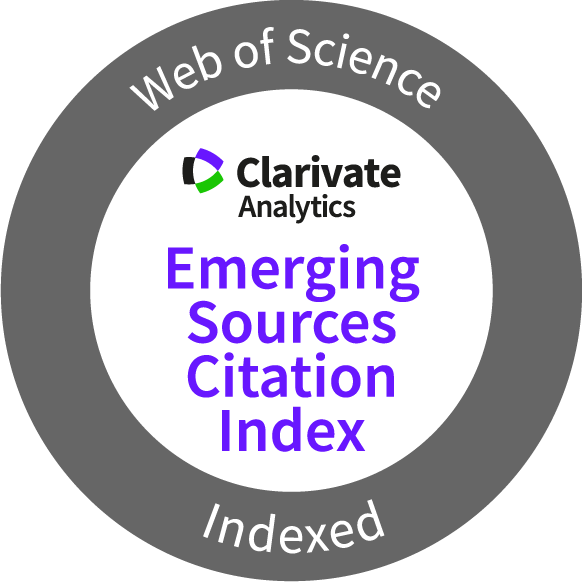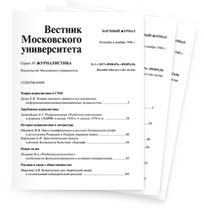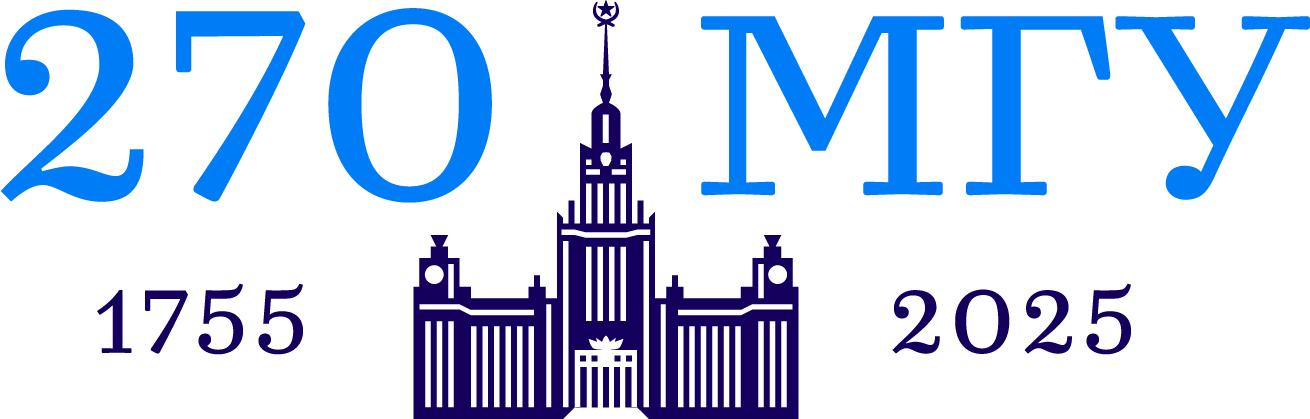Медиахолдинги как субъекты медиасистемы Российской Федерации: опыт комплексного исследования
Скачать статьюдоктор филологических наук, доцент кафедры теории и экономики СМИ, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID: 0000-0003-0035-5613
e-mail: smirnov_s@rambler.ruРаздел: Экономика СМИ
В статье представлены результаты исследования, положенного в основу диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 5.9.9. – Медиакоммуникации и журналистика. Автор подводит общие итоги проделанной работы и обозначает дальнейшие перспективы развития научной темы. Основные результаты исследования были ранее опубликованы в форме отдельных статей в рецензируемых научных журналах и монографии. Цель данной работы – сформировать целостное верифицированное представление о функционировании медиахолдингов России в существующих экономических, технологических, правовых и политических условиях. Базовая научная проблема заключается в том, что такие сложные субъекты национальной медиасистемы, как медиахолдинги, пока не имеют полноценного понятийно-категориального описания, отражающего разнообразные аспекты и последствия их деятельности.
DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.6.2024.158191Введение1,2
Принимая за основу социально-экономический характер медиа как особого института, мы априори считаем, что они всегда оказывают влияние на мировоззрение наций в целом, электоральную и гражданскую активность, культурные коды, систему ценностей, языковые практики и паттерны поведения людей. В эпоху информационного общества значение медиа достигло исторического максимума. И в этих условиях как никогда актуальным становится вопрос о том, какие именно акторы (действующие субъекты) медиасистемы определяют содержание и структуру каналов массовой коммуникации. Сразу уточним, что мы рассматриваем медиасистему прежде всего в экономическом ключе, т. е. как систему предприятий медиарынка (медиаиндустрию – отрасль национального хозяйства). Она представляет собой разнообразную и сложно организованную множественность хозяйствующих субъектов – организаций, деятельность которых связана с производством, упаковкой и распространением медиапродукта (контента). Эти организации могут быть как коммерческими, так и некоммерческими по целеполаганию, но в любом случае они являются институционализированными участниками экономических отношений (рыночного или нерыночного характера).
К настоящему времени медиасистема Российской Федерации прошла большой и непростой путь: возникли принципиально новые рыночные сегменты и цифровые информационные технологии, были пережиты несколько явных кризисов и период бурного экономического роста, менялась политическая обстановка, предпочтения аудитории и приоритеты рекламодателей. Разносторонние преобразования создали новые механизмы развития отрасли и заложили основу для новых тенденций, одной из которых стала концентрация собственности. И важно подчеркнуть, что медиахолдинги (медиагруппы) здесь одновременно выступают и в качестве акторов, и в качестве феномена, результирующего данный процесс.
Сосредоточение медиаактивов под контролем определенного круга владельцев началось в нашей стране еще в первой половине 1990-х гг., и с тех пор это явление приобрело постоянный характер. Уже сформировавшиеся медиахолдинги, представляющие как частные, так и государственные интересы, соперничают между собой и расширяются в том числе за счет приобретения или создания новых средств массовой информации (СМИ) и других медиа, что нацелено на укрепление рыночных позиций. На данный момент можно констатировать, что развитие медиахолдингов во многом определяет и структуру национальной медиасистемы, и ее основные экономические тренды, поскольку именно игроки-лидеры, аккумулирующие значительную часть ресурсов, имеют возможность оказывать существенное влияние на общее состояние сферы, в которой они ведут свою деятельность.
Значимость данного исследования обусловлена прежде всего тем, что концентрация в усложняющейся по структуре медиасистеме России не прекращается, хотя некоторые ее признаки со временем объективно меняются. А постоянный рост наиболее крупных экономических агентов в конечном счете угрожает свободной рыночной конкуренции в медиаиндустрии страны, вплоть до проявления в некоторых сегментах признаков монополистической деятельности. Кроме того, в силу особых экономических, юридических и политических условий концентрация на медиарынке России имеет национальный характер. Собственники крупных отечественных медиаактивов уже продемонстрировали различные, отчасти противоречивые подходы к ведению бизнеса в профильной сфере.
И, безусловно, мы исходим из того, что медиа, и СМИ в частности, были и остаются важнейшими инструментами социальной коммуникации, поэтому большое значение имеет, кто именно, с какой целью и каким образом определяет характер их деятельности: медиахолдинги по определению не только оказывают влияние на информационную повестку дня, но и зачастую генерируют ее.
А сам процесс их формирования обусловлен рядом разнонаправленных факторов (движущих сил), проявляющихся на глобальном, национальном и региональном уровне, и он отнюдь не линеен и, что особенно важно, не конечен во времени.
При этом важно особо отметить, что распространенное понимание сложившейся конфигурации отечественной медиасистемы в нюансах не всегда в полной мере соответствует формальному положению дел, а ряд деталей, связанных с деятельностью конкретных медиапредприятий (игроков), просто являются неочевидными (недоказуемыми) без подробного анализа соответствующего массива документальных источников информации. Здесь мы видим ключевое обоснование актуальности системного изучения российских медиахолдингов как особых субъектов медиасистемы России.
Теоретическая основа исследования
Обозначая общий методологический подход, мы зафиксируем положение, что любые экономические отношения являются частью системы отношений общественных и хозяйственная деятельность всегда имеет связь с имеющимся социальным контекстом. Это подтверждается постепенным обособлением в ХХ в. такой ветви науки об обществе, как экономическая социология (Дюркгейм, 1996; Радаев, 2003; Smelser, 2012; Stinchcombe, 2013; Вебер, 2021), которая изучает экономическую деятельность (в т. ч. и увеличение капиталов на рынке) с позиций социальной теории. И анализ их экономической природы конкретно медиа представляется нам невозможным без понимания тенденций развития социума и его текущих характеристик.
Обращаясь непосредственно к истории вопроса, можно выделить несколько отечественных и зарубежных исследовательских направлений, которые среди прочего включают принципиально важные для нас политэкономию медиа и медиаэкономикс. В концептуальном плане общим истоком здесь, безусловно, является марксистская политэкономия (Маркс, 2020), на основе которой во второй половине ХХ в. за рубежом сформировалась самостоятельная политэкономия медиа. Придерживаясь неомарксистских позиций, ее представители подвергали системной критике монополии СМИ, сам процесс концентрации на медиарынке и географический «информационный империализм» (Гляйссберг, 1974; Шиллер, 1980; Bagdikian, 2004). В этих подходах видны параллели с критической теорией представителей Франкфуртской школы, а также некоторых ее предшественников и последователей, которым принадлежат концепции «индустриализации культуры» и «информационного капитализма», оказывающего влияние на «публичную сферу» (Беньямин, 1996; Хоркхаймер, Адорно, 1997; Маркузе, 2003; Бодрийяр, 2003; Хабермас, 2016). Такой взгляд на характер индустриального (и постиндустриального) общества в той или иной степени не потерял сторонников среди исследователей в странах Северной Америки и Западной Европы и позднее, в том числе уже в эпоху цифровизации мировой медиасистемы (Herman, Chomsky, 1988; Garnham, 1990; McChesney, 1997; Sparks, Reading, 1998; Baker, 2007).
Между тем как отдельное исследовательское направление за рубежом сформировалась и медиаэкономикс, в спектр вопросов которой попадали не столько политические, культурные и социальные эффекты монополизации медиа, сколько более прикладные аспекты функционирования медиакомпаний: структуры собственности, бизнес-модели, взаимодействие с аудиторией, цикл производства контента, стратегии конкуренции и механизмы управления (Compain, Gomery, 2000; Picard, 2002; Albarran, 2010; Küng, 2008; Winseck, 2011). Как особый и очень важный для нас корпус исследований возникают работы, посвященные типологии концентрации в медиаиндустрии (Mosco, 1996; Doyle, 2002), а также измерению ее уровня и оценке разнообразия на этом специфическом товарном рынке (Noam, 2009; 2016).
В отечественных исследованиях советского периода тема информационного монополизма также поднималась, однако внимание уделялось в основном опыту капиталистических стран и буржуазных обществ (Беглов, 1972; Андрунас, 1986). Фокус и трактовки в научных трудах меняются, когда в самой медиасистеме России начинаются рыночные трансформации и в отрасли возникают новые акторы, начинаются другие экономические и политические процессы3. Возникают исследования, характеризующие развитие сегментов национальной медиаиндустрии и различные аспекты деятельности медиабизнеса4, а также первые работы, непосредственно посвященные процессу концентрации СМИ или формированию российских медиахолдингов (Блинова, 2001; Мухин, 2005; Мисонжников, 2017).
Как отдельный актуальный для темы кластер нужно выделить исследования, отражающие тренды развития российских СМИ на региональном уровне, включая их экономическую специфику (Ершов, 2012)5, а также исследования, посвященные трансформации всей отечественной медиасферы под влиянием тотальной цифровизации6. Особо важно отметить наличие профильных трудов, посвященных проблемам юридического статуса холдинговых объединений в экономике России и общим вопросам антимонопольного регулирования отраслевых рынков (Шиткина, 2008; Тенишев, Шишко, Лужбин, 2018). Таким образом, в общей сложности мы имеем дело с уже достаточно разработанной концептуально-теоретической основой для проведения дальнейших научных изысканий.
Базово мы исходили из того, что такой феномен, как медиахолдинг, в рамках отечественных реалий еще комплексно не изучен. А сам процесс концентрации в российской медиаиндустрии имеет потенциал для проведения исследований с использованием формализованного поискового инструментария. И прежде всего имеет смысл анализировать не влияние медиахолдингов на общественное сознание или политический процесс, а именно различные организационно-экономические аспекты их деятельности и складывающиеся конфигурации рыночного пространства. Поэтому перед собой мы ставили следующие новые задачи:
– определить функциональные признаки и правовой статус медиахолдинга (медиагруппы) в России как феномена, сложившегося в рамках отрасли, обладающей сложной идентичностью;
– разработать новый (альтернативный существующим) инструмент измерения концентрации в медиасистеме, учитывающий не только экономический параметр (объемы выручки предприятий), но и социальный – объемы их аудиторий, а также количество контролируемых медиа (СМИ);
– охарактеризовать экономические, технологические и политические факторы развития медиахолдингов в России на разных этапах формирования национальной медиасистемы;
– установить направления развития российского законодательства в сфере регулирования крупного медиабизнеса, а также защиты конкуренции на медиарынке;
– систематизировать все доступные данные о сложившихся структурах собственности, формах задействованных капиталов и финансовых показателях изучаемых медиахолдингов;
– определить уровень концентрации в отдельных сегментах российской медиаисистемы при помощи нового и применявшегося ранее инструментария (индексов);
– установить ключевые тенденции в развитии общенациональных медиахолдингов, а также сформулировать общие характеристики процесса концентрации в отрасли;
– выявить основные типы (модели) развития региональных медиахолдингов России как наиболее многочисленной категории субъектов медиасистемы.
Методика исследования
Основным общетеоретическим методом проведенного исследования стало сопоставление обширного эмпирического материала с существующими на данный момент концептуальными положениями отечественной и зарубежной медиаэкономики. Это дало возможность охарактеризовать главные особенности концентрации, наблюдающейся в практике российской медиасистемы. Также в ходе исследования применялась классификация изучаемых российских медиахолдингов по ряду признаков. В рамках индуктивного подхода в результате удалось выделить и промаркировать несколько моделей их развития. Также нами применялся системно-исторический способ толкования (интерпретации) права при работе с российскими нормативными актами.
Ключевой эмпирической методикой исследования являлась количественная, а именно измерение совокупностей всех собранных данных, в том числе при помощи разработанного нами оригинального инструмента. Им стал новый индекс концентрации – Synergetic Media Concentration Index (SMCI), апробированный путем проведения расчетов по составленной формуле. Также инструментарий исследования включал базовые индексы уровня концентрации на медиарынке – Concentration Ratio(CR), Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Media Ownership Concentration and Diversity Index (MOCDI) – и линейный коэффициент корреляции (r-Pearson), примененный для проверки статистических закономерностей. Полученные при расчетах результаты в целом подтвердили валидность избранной количественной методики для дальнейшего применения, но содержали вынужденные погрешности, связанные с перманентной нехваткой (отсутствием) некоторых релевантных сведений.
Эмпирический объект исследования представлял собой группу организаций, разделенных на два блока по географическому принципу. На общенациональном уровне были отобраны топ-6 медиахолдингов страны, являющихся ведущими игроками на телевизионном рынке и рынке онлайн-медиа7, а также топ-5 медиахолдингов в менее подверженных концентрации сегментах рынка – радиовещании и периодической печати8. При рассмотрении отдельных аспектов функционирования медиахолдингов к выборке при необходимости добавлялись и другие участники отрасли9. На региональном уровне были отобраны ключевые медиахолдинги всех субъектов федерации, столицы которых являются городами-миллионниками (N=17)10, и ключевые медиахолдинги всех субъектов, столицы которых являются городами-стотысячниками (N=60), а также несколько межрегиональных объединений (N=6)11. Таким образом, в общей сложности было рассмотрено около 100 организаций.
Эмпирическая база исследования представляла собой совокупность данных, содержащихся в различных хозяйственных и нормативных документах, сопровождающих, отражающих и регламентирующих экономическую деятельность холдинговых медиапредприятий в России. Она состояла из трех основных элементов:
– сведений об учредителях юридических лиц (выписок из ЕГРЮЛ), образующих медиахолдинги, и их бухгалтерско-финансовой отчетности (по формам РСБУ или IFRS/GAAP);
– статистических данных индустриальных исследовательских организаций (измерителей), отслеживающих динамику развития медиарекламного рынка и аудиторных показателей медиа (СМИ), а также данных официального реестра регулятора;
– положений российских нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих деятельность медиа (СМИ), медиапредприятий как агентов экономической деятельности, а также защиту конкуренции на товарных рынках.
Источниками вышеуказанного материала являлись веб-сайты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России), Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомназдор), Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)12, Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Союза предприятий печатной индустрии – Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП), Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), Российской академии радио (РАР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), «Новой сервисной компании» (НСК), «Интегрум», «ТМТ Консалтинг», «Консультант- Плюс», Mediascope, Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Координационного центра доменов RU/.РФ, а также ряда СМИ и изучаемых медиапредприятий («Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», «Яндекс», Mail.Ru Group и мн. др.).
Хронологические рамки исследования охватывали тридцать лет постсоветского периода в истории страны и национальной медиасистемы (1991–2020). Отсчет с 1991 г. обусловлен тем, что именно тогда была официально создана Российская Федерация как субъект международного права, а завершение исследования 2020 г. объясняется началом нового периода экономической турбулентности, связанной отчасти с последствиями пандемии коронавируса, а затем и существенными изменениями внешнеполитических обстоятельств. В связи с тем что экономическая транспарентность (прозрачность) отрасли в 1990-е и 2000-е гг. была очень далека от идеальной, основной фокус количественного исследования был вынужденно перемещен на 2010-е гг.
Результаты исследования
В начале работы нами была осуществлена необходимая операционализация ключевого термина, поскольку в экономической теории он имеет двойное значение. Под концентрацией медиа мы одновременно понимали: 1) объединение предприятий, владеющих медиа (СМИ), а также увеличение количества медиа под контролем одного предприятия; 2) относительную величину (долю, удельный вес) и количество медиапредприятий, действующих на рынке. Далее были рассмотрены основные причины и факторы развития концентрации на мировом медиарынке в историческом разрезе, а также экономические цели (эффект масштаба, эффект охвата, синергетический эффект) и негативные последствия (унификация содержания, парадокс разнообразия). Мы представили теоретическое разграничение типов концентрации (активная и пассивная; горизонтальная, вертикальная и диагональная), форм собственности (государственная, частная и общественная) и видов капитала (диверсифицированный и недиверсифицированный), которые могут лежать в основе формирования крупных медиакомпаний, в том числе холдинговых. Также были показаны варианты используемых медиахолдингами организационно-правовых форм в разных юрисдикциях и роль крупного медиабизнеса в глобализации отрасли. Нами отмечено, что в результате экономического роста ограниченных групп игроков наиболее часто встречающейся рыночной структурой в медиаиндустрии становится широкая (дифференцированная) олигополия, но при этом концентрация, скорее, носит циклический характер (выделяются три стадии).
Переходя к вопросу об измерении уровня концентрации в медиасистеме, прежде всего мы сделали обзор уже имеющегося инструментария. Это Concentration Ratio (CR4), Herfindahl-Hirschman Index (HHI) и Media Ownership Concentration and Diversity Index (MOCDI), или индекс Ноама. Они рассчитываются по формулам:

где S – известные доли предприятий в данной отрасли; n – общее количество предприятий в данной отрасли.
По нашему мнению, главным недостатком этих инструментов измерения концентрации в медиаиндустрии является то, что все они оперируют только показателем выручки компаний и их общей численностью. Как альтернативный инструмент, учитывающий и объем аудиторий, и количество контролируемых медиа (СМИ), нами был введен оригинальный Synergetic MediaConcentration Index (SMCI), рассчитываемый по формуле:

где S – доля предприятия x в выручке сегмента a; V – совокупная доля аудитории предприятия x в сегменте a; n – количество медиа, контролируемых предприятием x в сегменте a.
Принципиальное отличие нового индекса заключается в том, что он изначально показывает не общий уровень концентрации в отрасли, а «веса» конкретных игроков по сегментам. Показатель n введен в формулу потому, что он фиксирует, при помощи какого числа медиа были сформированы имеющиеся доли выручки и аудитории. И важно понимать, что игрок, обладающий большим количеством медиа, все же создает на рынке большее разнообразие. Также мы предложили специальную тестовую шкалу для определения уровня концентрации в сегменте в лице одного участника (см. табл. 1).


В то же время мы отметили, что для анализа результатов всех расчетов потребуются соответствующие шкалы, предложенные градуировки пока являются исключительно оценочно-теоретическими и, вероятнее всего, потребуют уточнений по результатам неоднократной эмпирической проработки.
Далее нами был проанализирован правовой статус крупных медиакомпаний в современной России. Поскольку в отраслевой и академической практике активно используются два термина – «медиахолдинг» и «медиагруппа», мы предложили уточненные определения, разграничив эти два понятия:
Медиахолдинг – совокупность материнской организации и контролируемых ею дочерних (внучатых) организаций, владеющих разными медиа (см. рис. 1). Медиагруппа – совокупность разных медиа, контролируемых одной организацией (см. рис. 2).


При этом мы констатировали, что понятия «медиахолдинг» и «медиагруппа» в России являются юридически ничтожными, поскольку ни в одном отраслевом законодательном акте (в частности, в Законе «О средствах массовой информации») они не упоминаются и не получили нормативного толкования. Также было отмечено, что и российское общеэкономическое законодательство не содержит базового понятия «холдинг», что является системным недостатком (см. табл. 2). Этот факт затрудняет идентификацию холдинговых объединений в российской экономике в целом и на российском медиарынке в частности и приводит к неопределенности их правового статуса. Наш вывод заключался в том, что существующий в данной сфере «правовой вакуум» препятствует адекватному развитию всего комплекса законодательного регулирования отечественной медиаиндустрии.

Далее мы продемонстрировали имеющиеся проблемы отраслевой маркировки и статистического учета медиапредприятий России: имеется в виду ряд юридических нюансов, затрудняющих изучение медиаотрасли как единого целого, а также проблемы понятийно-категориального аппарата в данной сфере (в частности, понятие «СМИ» не эквивалентно понятию «медиапредприятие»). Нами были представлены результаты сравнительного анализа трех документов – Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 1) и Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Была выявлена историческая динамика юридического оформления медиаиндустрии как самостоятельной части национального хозяйства, что выражается и в качественных, и в количественных показателях (см. рис. 3).

Мы были вынуждены отметить, что в рамках формирования отраслевой идентичности остался ряд нерешенных проблем и спорных вопросов. Так, на практике имеют место неточные и ложные маркировки медиапредприятий, что создает объективные трудности для формального статистического учета хозяйствующих субъектов. Также в действующем ОКВЭД 2 пока отсутствуют некоторые важные коды, в том числе соответствующие деятельности медиахолдинга. Коды ОКПД, ОКОПФ, ОКФС и отсутствие статуса субъекта МСП также не упрощают идентификацию медиапредприятий такого рода.
Отдельно нами была представлена совокупность органов власти и иных институтов, определяющих рамки для функционирования медиабизнеса, а также сложный комплекс нормативных правовых актов, регулирующих деятельность медиапредприятий в России. Мы показали историю формирования ветви исполнительной власти, в настоящее время возглавляемой федеральным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Также были приведены сведения о множестве других государственных органов, обладающих полномочиями в отношении медиабизнеса по «отраслевому профилю» (Минкультуры, ФАС, Минюст и др.) и «на общих основаниях» (ФНС, ЦБ, Росстат и др.). Внимание было уделено сферам деятельности специальных (РТРС, РАО, РКП и др.) и профессиональных (СППИ ГИПП, НАТ, РАЭК и др.) организаций, оказывающих влияние на национальную медиаиндустрию. Также нами был рассмотрен разнообразный по составу перечень законодательных актов, в той или иной степени затрагивающих деятельность игроков российского медиарынка. Подсчет показал, что в общей сложности сегодня имеется около 50 нормативных документов федерального уровня. В результате был сделан вывод, что отечественный медиабизнес, особенно крупный и многопрофильный, юридически находится в весьма «сложноподчиненном» положении.
Разбирая экономическую основу концентрации в медиасистеме, мы представили основные периоды развития российского медиарынка и сопряженные с ними этапы формирования системы крупных медиапредприятий. В качестве ключевого драйвера была рассмотрена динамика медиарекламного рынка страны с выделением четырех основных периодов: 1991–1998, 1999–2008, 2009–2014, 2015–2020. Нами отмечено, что обусловленные макроэкономическими обстоятельствами темпы роста рекламных доходов российских медиахолдингов (медиагрупп) были неодинаковыми, наблюдались циклические подъемы и спады (см. рис. 4).

В каждом из обозначенных периодов экономического развития медиарынка России были детально рассмотрены основные события, связанные с возникновением и исчезновением медиахолдингов, сделками купли-продажи, размещением ценных бумаг на биржевых площадках (IPO), появлением и уходом разных инвесторов, включая отечественные финансово-промышленные группы (ФПГ) и зарубежные медиакомпании. Помимо общей динамики объемов рекламного рынка мы проанализировали нарастающее изменение его структуры: сокращение бюджетов в офлайн-секторе и их увеличение в онлайн-секторе, что существенно отразилось и на экономике медиахолдингов в части освоения деятельности в Рунете. Также был продемонстрирован постепенный рост объемов пользовательских платежей и государственной поддержки отрасли, что является важным источником дохода для ряда игроков.
Отдельно нами были оценены основные эффекты технологического развития отрасли для крупных медиакомпаний. Мы констатировали, что начавшаяся во второй половине 2000-х гг. дигитализация уже в 2010-е гг. в России приобрела тотальный характер, что прежде всего выразилось в проникновении Интернета во все сферы жизни социума. В медиаиндустрии наступление цифровой эпохи расширило количество участников и обострило конкуренцию за ключевые ресурсы –платежеспособную аудиторию и рекламные бюджеты. Параллельно сформировался новый феномен «цифровых монополий»: многопрофильные интернет-компании демонстрируют стремительные темпы развития, а также распространяют влияние своих экосистем на весь национальный медиарынок, включая самостоятельных акторов (например, блогеров). Было особо отмечено, что выручка от размещения рекламы распределяется все более неравномерно и в Рунете: около половины бюджетов уже достается одному игроку (см. рис. 5).

Мы пришли к выводу, что технологическая трансформация не ликвидирует концентрацию в российской медиаиндустрии, а меняет ее внутренний и внешний характер. Эффективные бизнес-модели новых «сервисных» компаний (платформ) вывели их в уникальное лидерское положение, что представляет собой явную угрозу для всех остальных игроков отрасли. И в условиях активно меняющейся цифровой среды традиционные «контентные» компании делают все возможное, чтобы укрепить и удержать свои рыночные позиции.
Далее нами были рассмотрены трудности антимонопольного регулирования российского медиарынка, а также влияние политических интересов на процесс развития крупного медиабизнеса. Мы подробно проанализировали все действующие нормативные правовые акты, представляющие как специальное отраслевое, так и общее законодательство России по защите конкуренции. Удалось выявить ключевые пробелы и сложные для однозначной трактовки юридические положения, затрудняющие деятельность государственного контрольно-надзорного органа (ФАС). Мы вынужденно констатировали, что в настоящее время отечественное правовое поле в целом фактически не приспособлено к регулированию концентрации на медиарынке страны, поскольку формальное определение отраслевой и сегментной принадлежности игроков, их совокупных рыночных долей, доминирующего положения и состава предоставляемой товара-услуги сейчас представляет большую проблему. Также было отмечено, что свою роль в развитии концентрации играет и государственный протекционизм по отношению к избранным участникам отрасли (в частности, распределение слотов для телевещания в цифровых мультиплексах). Вывод заключался в том, что для адекватного современным реалиям контроля над деятельностью крупнейших медиакомпаний в России требуется выработка принципиально новых подходов и норм, учитывающих всю специфику этой индустрии как объекта регулирования.
Внимание также было уделено связям крупного отечественного медиабизнеса с российскими элитами. Мы констатировали, что процессы создания и ликвидации медиахолдингов (медиагрупп) зачастую в значительной степени зависели и зависят от характера взаимоотношений их собственников с элитами. Однако политическое влияние на процесс концентрации в отрасли является крайне труднодоказуемым, поскольку оно в принципе слабо формализовано и не измеряется при помощи точных величин. Нами был приведен ряд примеров перераспределения собственности на медиарынке страны, где важная роль политической составляющей представляется наиболее вероятной. Отмечено, что крупнейшие медиакомпании, контролирующие наиболее значимые общественно-политические СМИ и тем самым формирующие информационную повестку дня, сегодня образуют «ядро» сложившейся в России медиаполитической системы, модель которой пока не получила в академической среде конвенционального названия.
Детально нами были проанализированы сложившиеся структуры собственности медиакомпаний общенационального уровня и их связи с владельцами. Исходя из объемов годовой выручки (на 2020 г.), прежде всего рассматривались участники «большой шестерки» – «Газпром-медиа» (ГПМ), «Национальная Медиа Группа» (НМГ), «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), «Яндекс», Mail.Ru Group и Google (дочернее предприятие в России), а также топ-5 игроков по совокупному объему аудиторий (на 2020 г.) в сегменте радиовещания («Европейская медиагруппа» (ЕМГ), «Русская медиагруппа» (РМГ), Krutoy Media, «Мультимедиа Холдинг» (ММХ), «Румедиа») и в сегменте периодической печати («ИМ Медиа», Burda, Hearst Shkulev Media (HSM), «Комсомольская правда» (КП) и «Толока»). В большинстве случаев подтвердилось наличие имущественных холдингов (см. табл. 3), среди которых были выявлены как классические, так и смешанные. Установлено, что с точки зрения внутренней организации медиакомпаниями используется либо принцип «большой матрешки» (холдинг → субхолдинги → активы), либо «малой матрешки» (холдинг → активы).

Также были рассмотрены варианты имущественных связей крупнейших медиахолдингов с их владельцами. Мы констатировали, что зачастую структуры собственности являются очень многозвенными (см. рис. 6), и поскольку цепочки учредителей юридических лиц (в случае с закрытыми АО) не всегда эквивалентны их реальным акционерам, то экономический контроль одного хозяйствующего субъекта (например, банка) над другим (медиахолдингом) может быть неочевидным и формально недоказуемым. Отмечено, что и составы Советов директоров медиакомпаний не всегда дают полное представление о существующих корпоративных взаимосвязях и формах экономической аффилированности. Исключением из общего правила являются только публичные медиахолдинги, ценные бумаги которых обращаются на биржах, что подразумевает доступность информации об акционерах.

Обратившись к финансовым показателям медиахолдингов, сначала мы рассмотрели законодательные нормы формирования и публикации отчетности для различных видов медиапредприятий в современной России и проблемы прозрачности крупного медиа-бизнеса. Были проанализированы трудности, связанные с историческими различиями в существующих подходах к форматам раскрытия финансовой информации в России, что по умолчанию касается и участников медиарынка (согласно Налоговому кодексу РФ, а также Законам «О рынке ценных бумаг», «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», «О консолидированной финансовой отчетности» и «О бухгалтерском учете»). Нами отмечено, что введение в 2020 г. требования об обязательной публикации отчетности на ресурсе ГИР БО ФНС сделало отечественный медиабизнес в целом более транспарентным. Были представлены сведения о текущих финансовых результатах деятельности шести крупнейших медиакомпаний страны (см. рис. 7) и десяти лидеров сегментов отрасли (ключевые показатели головных организаций по РСБУ).

При изучении отраслевых кейсов нами были показаны некоторые пробелы, препятствовавшие систематическому сбору и изучению экономических показателей медиакомпаний. Мы пришли к выводу, что основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие обязательного требования о консолидированной финансовой отчетности (КФО) по МСФО для всех игроков, являющихся именно холдинговыми структурами. Доказано, что этот аспект пока делает невозможным корректный подсчет объемов отечественной медиаиндустрии в целом и ее отдельных сегментов.
Далее нами были проанализированы наиболее значимые стратегические решения крупнейших игроков отрасли, а также представлены результаты расчетов уровня концентрации по нескольким индексам. Мы зафиксировали явное доминирование диагонального типа развития медиакомпаний, что объясняется их стремлением охватить все доступные рыночные ниши; в то же время в росте масштабов деятельности были выявлены как активные, так и пассивные тенденции. Отмечена также консолидация ведущих игроков офлайн-сектора при осуществлении рекламных продаж (создание единого селлера) и освоение ими наиболее перспективных новых сегментов (в частности, онлайн-кинотеатров), что обусловлено очевидным усилением экономической конкуренции со стороны цифровых мультисервисных платформ (см. рис. 8).

На примере наиболее статистически прозрачного и экономически мощного сегмента российской медиаиндустрии – рынка обязательных общедоступных телеканалов – нами был измерен уровень концентрации по индексам СR3, HHI и MOCDI за 2020 г. (с 2015 г. СR4 превратился в CR3 из-за исчезновения «СТС Медиа» как отдельного игрока). В результате был зафиксирован высокий уровень концентрации во взятом сегменте, согласно существующим шкалам ФАС (см. табл. 4).

При помощи альтернативного индекса SMCI также были определены синергетические «веса» топ-3 игроков рынка обязательных общедоступных телеканалов (НМГ, ГПМ и ВГТРК). Согласно оригинальной авторской шкале по указанным медиакомпаниям были зафиксированы очень высокий, высокий и умеренный уровни концентрации (см. рис. 9).

Расчеты индексов СR3, HHI и MOCDI, учитывающих только выручку организаций и их количество, синхронно показали рост уровня концентрации в сегменте за период 2011–2020 гг. В случае с суммарным SMCITV total за тот же период было зафиксировано даже небольшое снижение показателя, объясняемое изменениями долей аудиторий телеканалов и их численности у медиахолдингов. Подсчитанный линейный коэффициент корреляции (r-Pearson) продемонстрировал сильную зависимость между ростом объемов телерекламного рынка и ростом уровня концентрации в сегменте по индексам СR3, HHI и MOCDI (0,87; 0,84; 0,84) и ожидаемо не продемонстрировал такой же зависимости по индексу SMCITV total (-0,52), поскольку последний является многокомпонентным. И мы пришли к важному выводу, что процесс концентрации в медиасистеме неверно рассматривать исключительно с экономических позиций.
Завершая исследование, мы обратились к российским медиахолдингам регионального уровня. В первую очередь нами были проанализированы медиакомпании, ведущие деятельность в наиболее развитых регионах страны, столицы которых являются городами-миллионниками. В конце 2010-х гг. к ним относились: Москва и Санкт-Петербург (а также Московская и Ленинградская области), Республика Башкортостан (Уфа), Республика Татарстан (Казань), Волгоградская область (Волгоград), Воронежская область (Воронеж), Нижегородская область (Нижний Новгород), Новосибирская область (Новосибирск), Омская область (Омск), Ростовская область (Ростов-на-Дону), Самарская область (Самара), Свердловская область (Екатеринбург), Челябинская область (Челябинск), Красноярский край (Красноярск) и Пермский край (Пермь). Под региональным медиахолдингом мы понимали объединение, медиа которого присутствуют на географическом рынке одного субъекта федерации и не имеют общенационального аудиторного охвата.
Нам удалось выявить специфику структур собственности 17 наиболее крупных объединений СМИ, их финансовое положение и направления деятельности. В результате были представлены наиболее важные для медиарынка характеристики изученных предприятий (см. табл. 5). В регионах со столицами-миллионниками были зафиксированы в целом высокая роль государства как собственника медиахолдингов (при этом ОПФ юридических лиц могла быть как некоммерческой, так и коммерческой), распространенность бюджетной экономической поддержки, доминирование диагонального типа концентрации и относительно редкое использование федеральных франшиз.

Затем мы проанализировали медиакомпании, ведущие деятельность в большинстве регионов страны, но с разным уровнем социально-экономического развития. В общей сложности были рассмотрены 60 кейсов в субъектах Центрального федерального округа (ЦФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Приволжского федерального округа (ПФО), Южного федерального округа (ЮФО), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Уральского федерального округа (УФО), Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного федерального округа (ДФО). Нам также удалось выявить специфику структур собственности наиболее крупных объединений СМИ, их финансовое положение и направления деятельности. В регионах со столицами-стотысячниками в целом были зафиксированы достаточно высокая роль государства как собственника медиахолдингов и доминирование диагонального типа концентрации. В то же время использование федеральных франшиз встречалось гораздо чаще, а также наблюдался примерный количественный паритет между организациями, имеющими бюджетную экономическую поддержку, и организациями, существующими в рыночных условиях (см. табл. 6).

В итоге мы выделили шесть основных актуальных моделей развития регионального медиахолдинга в России (см. табл. 7). В качестве индикаторов модели использовались следующие параметры: организационно-правовая форма головного юридического лица, наличие/отсутствие экономической поддержки со стороны государства, а также выбранные направления деятельности на медиарынке (собственные медиабренды или федеральные франшизы). При этом было отмечено, что полученные результаты объективно не являются константой и со временем потребуют уточнений в силу постоянных трансформаций российской медиасистемы.

Наконец, нами была проанализирована деятельность такого особого типа компаний как межрегиональные медиахолдинги. Под межрегиональным медиахолдингом мы понимали объединение, медиа которого присутствуют на географическом рынке нескольких субъектов федерации, но не имеют общенационального аудиторного охвата. Всего было обнаружено 6 предприятий, основные организации которых не находятся в столице страны (Москве), но представлены за пределами медиарынка своего базового региона. Удалось также выявить специфику структур собственности данных объединений СМИ, их финансовое положение и направления деятельности. Мы констатировали, что в России сформировались только две актуальные модели развития межрегионального медиахолдинга (см. табл. 8).

В случае с межрегиональными медиахолдингами особое внимание обратило на себя однозначное доминирование частной предпринимательской инициативы – относительно размытое межрегиональное поле деятельности по умолчанию заполняется коммерческими игроками. Нами было отмечено, что в целом межрегиональное начало в развитии российских медиахолдингов пока выражено относительно слабо, но у этого вектора есть перспектива, так как в стране имеются макрорегионы (Кавказ, Поволжье, Сибирь и т. п.), обладающие внутренней социально-экономической идентичностью.
Выводы
Итак, нам удалось определить функциональный характер медиахолдинга (медиагруппы) в современной России и в то же время зафиксировать отсутствие у них четкого юридического статуса. Мы рассмотрели совокупность экономических, технологических и политико-правовых факторов, влияющих на формирование национального медиарынка и его ведущих игроков. Были установлены ключевые тренды и стратегии роста общенациональных медиахолдингов, а также сформулированы общие закономерности развития концентрации в медиасистеме страны.
Из принципиально новых результатов прежде всего выделим разработку и первую апробацию альтернативного индекса измерения концентрации (SMCI), интегрирующего экономические и социальные параметры. Также было выявлено шесть различных моделей российских медиахолдингов на региональном уровне. Кроме того, удалось обновить, а главное, существенно расширить общий объем данных, характеризующих развитие крупного российского медиабизнеса, и более детально проработать и систематизировать неочевидные нормативные аспекты его регулирования.
Поскольку основные выводы были раскрыты выше, имеет смысл вкратце обозначить возможные пути дальнейших исследований. Нам представляется, что наиболее актуальным вопросом в обозримом будущем станет именно нарастающий монополизм «цифровых экосистем» и их влияние на общее состояние медиакоммуникационного рынка. В условиях стремительной технологической трансформации индустрии этот особый тип доминирующих игроков кардинально меняет привычную бизнес-среду. И верная идентификация ключевых экономических агентов, а также четкое определение сфер их реального присутствия является важнейшей задачей для адекватного регулирования деятельности новых лидеров в целях защиты конкуренции и обеспечения разнообразия.
В связи с этим мы полагаем, что изучение сложного и многоаспектного феномена медиахолдинга и процесса концентрации в медиасистеме России в любом случае необходимо продолжать. Тем более что в современных условиях сбор и анализ точных сведений о состоянии индустрии в целом и ее отдельных участников уже не представляет собой неразрешимой проблемы. И в конечном счете такие исследования могут иметь не только теоретическое, но и прикладное значение – прежде всего, в области дальнейшего развития отраслевого и антимонопольного законодательства. Здесь мы видим три возможных сценария развития ситуации. Первый из них подразумевает сохранение статус-кво: медиахолдинги останутся реальными субъектами медиасистемы России, но не получат никакого формального признания. Второй сценарий, который представляется нам наиболее разумным, – это появление у медиахолдингов официального правового статуса, что будет связано и с внедрением конкретных прямых норм по регулированию концентрации на медиарынке. Третий сценарий, гипотетический, означает исчезновение медиахолдинга как формы хозяйственного объединения – по экономическим, политическим или каким-то иным причинам, что просто деактуализирует данную сторону вопроса.
Представляется целесообразным в дальнейшем размышлять о развитии и обновлении понятийно-категориального аппарата современной медиаэкономики. Такие важные термины, как «медиабизнес», «медиаиндустрия», «медиарынок», «медиапредприятие», «медиакапитал», «медиасобственность» и др., очевидно потребуют глубинного переосмысления в условиях тотальной цифровизации информационно-коммуникационной сферы. На данном этапе мы не готовы дать им исчерпывающие определения (трактовки), поскольку такая задача выходит за рамки объектно-предметного поля проведенного исследования, а также требует подробного профессионального обсуждения с участием представителей разных научных школ. Однако продолжение работы в этом направлении является, с нашей точки зрения, логичным и необходимым.
Примечения
1 Положительная защита состоялась 26.06.2024 на заседании диссертационного совета МГУ.059.4-1 Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
2 Перечень публикаций автора по теме исследования (26 наименований):
Смирнов С. С. Финансовая транспарентность крупного медиабизнеса в России: изменение аспектов проблемы // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2022. № 2. С. 3–20.
Смирнов С. С. Проблемы антимонопольного регулирования медиарынка в России // Вопросы теории и практики журналистики. 2021. № 2. С. 270–284.
Смирнов С. С. Банковские структуры на российском рынке СМИ: экономические отношения с медиахолдингами // МедиаАльманах. 2021. № 5. С. 46–51.
Смирнов С. С. Феномены «медиахолдинг» и «медиагруппа» в России: проблема неопределенности правового статуса // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2020. № 6. С. 23–40.
Смирнов С. С. Особенности развития крупнейших межрегиональных медиахолдингов России // МедиаАльманах. 2020. № 5. С. 93–99.
Смирнов С. С., Гасанов Э. С., Радаев И. В. Особенности развития крупнейших региональных медиахолдингов России (города-стотысячники: ЮФО, СКФО, УФО, СФО, ДФО) // МедиаАльманах. 2019. № 3. С. 54–63.
Смирнов С. С., Гасанов Э. С., Радаев И. В. Особенности развития крупнейших региональных медиахолдингов России (города-стотысячники: ЦФО, СЗФО, ПФО) // МедиаАльманах. 2019. № 2. С. 80–88.
Вартанова Е. Л., Смирнов С. С. Об актуальности и проблемах количественных исследований российских медиа // Вестн. Томск. гос. ун-та. Филология. 2018. № 54. С. 206–221.
Смирнов С. С. Новый инструмент измерения концентрации в медиаиндустрии (первая апробация теоретической разработки) // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2017. № 2. С. 3–17.
Смирнов С. С. Особенности развития крупнейших региональных медиахолдингов России (города-миллионники). Часть I // МедиаАльманах. 2016. № 5. С. 66–78.
Смирнов С. С. Особенности развития крупнейших региональных медиахолдингов России (города-миллионники). Часть II // МедиаАльманах. 2016. № 6. С. 50–63.
Смирнов С. С. Особенности развития крупнейших региональных медиахолдингов России (Москва и Санкт-Петербург) // МедиаАльманах. 2016. № 2. С. 50–58.
Смирнов С. С. Новый этап нормативного формирования идентичности российской медиаиндустрии // Медиаскоп. 2016. Вып. 2. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2095.
Смирнов С. С. Показатели уровня концентрации в медиаиндустрии России: проблемы измерения // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2015. № 3. С. 66–79.
Смирнов С. С. Медиахолдинги России: национальный опыт концентрации СМИ. – М.: МедиаМир, 2014. – 160 с.
Смирнов С. С. Медиагруппа Алишера Усманова на рынке СМИ России // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2013. М.: Фак. журн. МГУ, 2014. С. 78–90.
Смирнов С. С. Холдинг «Национальная Медиа Группа» на рынке СМИ России // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2012. М.: Фак. журн. МГУ, 2013. С. 132–142.
Смирнов С. С. Медиахолдинг: к вопросу о применении термина в России // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2011. М.: Фак. журн. МГУ, 2012. С. 120–132.
Смирнов С. С. Федеральные телеканалы России: нюансы структур собственности // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2010. М.: Фак. журн. МГУ, 2011. С. 106–118.
Смирнов С. С. Медиаиндустрия России как внестатистический феномен // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2010. № 6. С. 178–187.
Vartanova E., Smirnov S. (2010) Contemporary structure of the Russian media industry. In: Rosenholm A., Nordenstreng К. and Trubina E. (eds.) Russian mass media and changing values. London: Routledge, pp. 33–52.
Вартанова Е. Л., Смирнов С. С. Российские СМИ после социализма: политика vs потребление // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2009. № 1. С. 6–19.
Макеенко М. И., Смирнов С. С. Тенденции развития корпоративного управления в ведущих медиакомпаниях России // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2009. № 1. С. 54–67.
Смирнов С. С. «Третий канал» на телевизионном рынке московского региона // МедиаАльманах. 2009. № 6. С. 92–99.
Смирнов С. С. Тема концентрации СМИ в России: ключевые направления и трудности исследования // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2007. М.: Фак. журн. МГУ, 2008. С. 16–23.
Смирнов С. С. ТВС: история одного коллапса // МедиаАльманах. 2007. № 4. С. 46–52.
3 Засурский И. И. Реконструкция России (Масс-медиа и политика в 90-е). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 288 с.; Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики: методологический этюд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 360 с.; Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М.: МедиаМир, 2014. 280 с.
4 Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 464 с.; Назайкин А. Н. Современное медиапланирование. Традиционные СМИ, а также реклама в Интернете. М.: Солон-пресс, 2019. 448 с.
5 Вырковский А. В., Макеенко М. И. Региональное телевидение России на пороге цифровой эпохи. М.: МедиаМир, 2014. 144 с.
6 Коломиец В. П. Медиатизация медиа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2020. 256 с.; Дугин Е. Я. Медиаиндустрия в условиях цифровых трансформаций. М.: Канон+, 2021. 416 с.
7 Речь идет о «Газпром-медиа», «Национальной Медиа Группе», ВГТРК, «Яндексе», Mail.Ru Group и дочерней организации Google в России (2010-е гг.). Критериями для включения в выборку являлись аудиторные показатели и численность контролируемых медиабрендов.
8 Речь идет о «Европейской медиагруппе», «Русской медиагруппе», Krutoy Media «Мультимедиа Холдинге» и «Румедиа», а также о «ИМ Медиа», Burda, Hearst Shkulev Media, «Толоке» и «Комсомольской правде» (2010-е гг.). Критериями для включения в выборку являлись аудиторные показатели и численность контролируемых медиабрендов.
9 Речь идет, например, о таких медиахолдингах, как Rambler Group и РБК (2010-е гг.).
10 Московская и Ленинградская области рассматривались как субъекты федерации, связанные с городом-миллионником (Москвой и Санкт-Петербургом).
11 Из-за нехватки аудиторных (медиаметрических) данных основным критерием для включения в выборку для региональных (межрегиональных) медиахолдингов являлась общая численность контролируемых медиабрендов.
12 В 2020 г. ФАПМК было ликвидировано, а его функции переданы в Минцифры.
Библиография
Андрунас Е. Ч. Бизнес и пропаганда: система контроля крупного капитала США над средствами массовой информации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 223 с.
Антимонопольное регулирование: проблемы законодательства, теории и практики / Отв. ред. А. П. Тенишев, И. В. Шишко, Е. Л. Лужбин. М.: Проспект, 2018. 272 с.
Беглов С. И. Монополии слова. М.: Мысль, 1972. 461 с.
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Пер. с нем.; под. ред. Ю. А. Здорового. М.: Медиум, 1996. 240 с.
Блинова О. Н. Медиа-империи России. На службе государства и «олигархии». М.: Центр политической информации, 2001. 168 с.
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Пер. с фр. Д. Кралечкина. М.: Библион: Русская книга, 2003. 272 с.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. И. Левиной. М.: АСТ, 2021. 352 с.
Гляйссберг Г. О концентрации печати и манипулировании общественным мнением / Пер. с нем. К. Колосова и В. Острогорского. М.: Прогресс, 1974. 170 с.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана, примечания В. В. Сапова. М.: Канон, 1996. 432 с.
Ершов Ю. М. Телевидение регионов в поиске моделей развития. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 340 с.
Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Т. 1 / Пер. с нем. П. Клюкина. М.: Эксмо, 2020. 1200 с.
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества / Пер. с англ.; послесл., примеч. А. А. Юдина. М.: АСТ, 2003. 526 с.
Мухин А. А. Медиа-империи России. М.: Алгоритм: Алгоритм-Книга, 2005. 284 с.;
Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 328 с.
Современный медиахолдинг: формы существования и проблемы институционализации / Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. М.: Флинта: Наука, 2017. 504 с.
Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы. Исследования относительно категории буржуазного общества / Пер. с нем. В. Иванова. М.: Весь мир, 2016. 344 с.
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / Пер. с нем. М. Кузнецова.М., СПб.: Медиум, Ювента, 1997. 312 с.
Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Пер. с англ.; науч. ред. Я. Н. Засурский. М.: Мысль, 1980. 326 с.
Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группах компаний. М.: Волтерс Клувер, 2008. 552 с.
Albarran A. B. (2010) The Media Economy. New York: Routledge. 216 pp.
Bagdikian В. (2004) The New Media Monopoly. (20th ed.). Boston: Beacon Press. 299 pp.
Baker С. Е. (2007) Media Concentration and Democracy: Why Ownership matters. New York: Cambridge University Press. 256 pp.
Compain B., Gomery D. (2000) Who owns the Media? Competition and Concentration in the Mass Media Industry. New York: Routledge. 630 pp.
Doyle G. (2002) Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media. London: Sage Publications. 192 pp.
Garnham N. (1990) Capitalism and Communications: Global Culture and the Economics of Information. London: Sage Publications. 224 pp.
Herman E., Chomsky N. (1988) Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. 412 pp.
Küng L. (2008) Strategic Management in the Media: Theory to Practice. London: Sage Publications. 256 pp.
McChesney R. (1997) Corporate Media and the Threat to Democracy. New York: Seven Stories Press. 80 pp.
Mosco V. (1996) The Political Economy of Communication. London: Sage Publications. 320 pp.
Noam E., The International Media Concentration Collaboration (2016) Who Owns the World’s Media? Media Concentration and Ownership around the World. New York: Oxford University Press. 1440 p.
Noam E. (2009) Media Ownership and Concentration in America. New York: Oxford University Press. 512 pp.
Picard R. (2002) The Economics and Financing of Media Companies. New York: Fordham University Press. 270 pp.
Smelser N. (2012) The Sociology of Economic Life. Whitefish: Literary Licensing. 130 pp.
Sparks С., Reading A. (1998) Communism, Capitalism and the Mass Media. London: Thousand Oaks; Sage Publications. 240 pp.
Stinchcombe A. L. (2013) Economic Sociology. New York: Academic Press. 282 pp.
Winseck D. (2011) The Political Economies of Media and the Transformation of the Global Media Industries. New York: Bloomsbury Academy. 336 pp.
Как цитировать: Смирнов С. С. Медиахолдинги как субъекты медиасистемы Российской Федерации: опыт комплексного исследования // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2024. № 6. С. 158–191. DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.6.2024.158191
Поступила в редакцию 26.10.2024