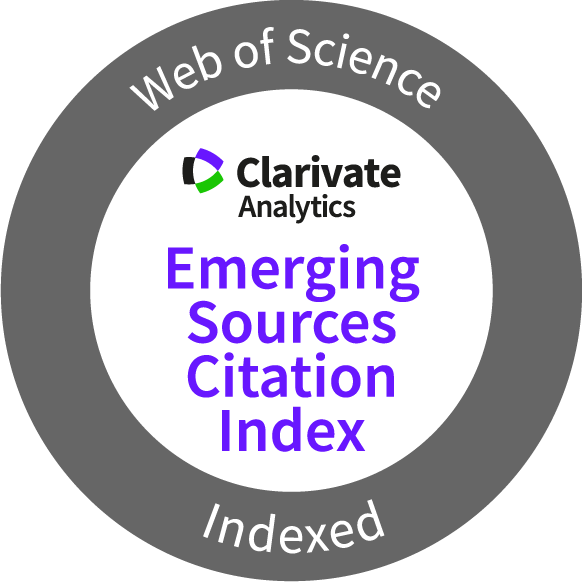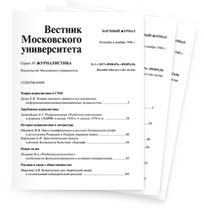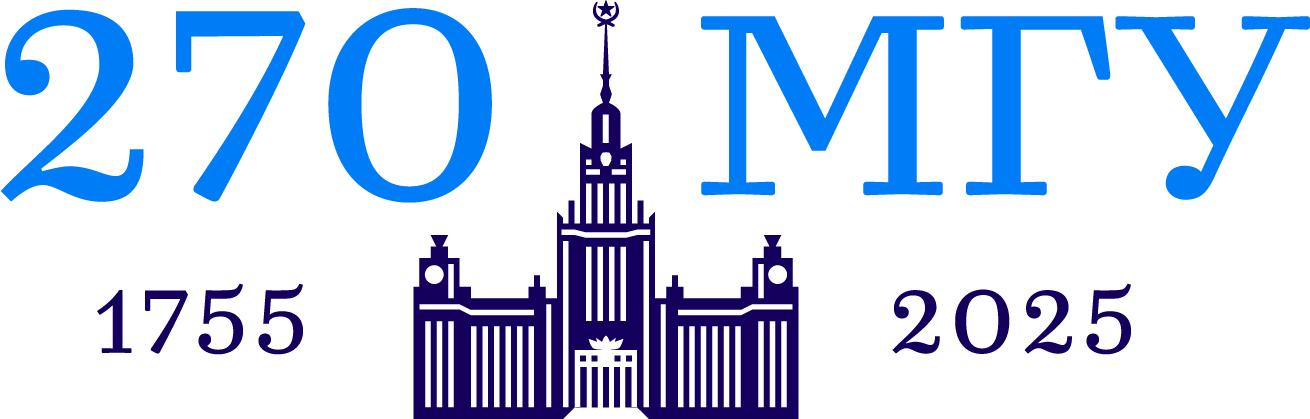Медиапотребление студентов Донбасса: ресурсы, форматы, оценки
Скачать статьюстарший преподаватель кафедры журналистики и помощник ректора Донецкого государственного университета, г. Донецк, Россия; ORCID 0009-0003-1566-7975
e-mail: n.moskalenko@donnu.ruРаздел: Социология журналистики
В статье рассматриваются результаты опроса, проведенного в декабре 2023 г. в трех вузах ДНР – Донецком государственном университете (ДонГУ), Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Донецком национальном техническом университете (ДонНТУ). В опросе приняли участие 378 студентов, представляющих разные курсы и направления подготовки и составляющих репрезентативную выборку из состава учащейся молодежи. Опрос выявил предпочитаемые респондентами медиаресурсы, способы работы с ними, прояснил, как студенты воспринимают медиаконтент и какие факторы влияют на его оценку. Полученная картина студенческого медиапотребления в ДНР сравнивается с имеющимися на сегодняшний день представлениями о взаимоотношениях молодых россиян с миром СМИ. Делается вывод, что медиапотребление студентов Донбасса, несмотря на особую ситуацию, в которой находится этот новый регион страны, не отличается от медиапотребления их сверстников в остальной России.
DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.5.2024.7999Введение
Одним из важных условий укрепления суверенитета РФ в настоящее время является интеграция молодежи новых регионов, в том числе ДНР, в российское социокультурное пространство. Современная молодежь ДНР росла в сложных условиях вооруженного и информационно-психологического противостояния, после вхождения региона в состав РФ остаются вызовы, связанные с СВО. Вместе с тем в силу традиционно высокого уровня научнотехнического и культурного развития Донбасса имеются все основания считать, что жителям ДНР, родившимся в начале XXI в., свойственны те же особенности мировосприятия, которые присущи их сверстникам в остальной России. Важнейшим аспектом такого мировосприятия и в целом индивидуальной и коллективной идентичности данного поколения являются взаимоотношения с медиасферой.
Российские исследователи подчеркивают особую роль медиапространства в формировании базовых характеристик индивида и общества. Е. Л. Вартанова отмечает появление принципиально новой антропологической сущности – «человека медийного», одновременно потребителя и производителя информационной продукции (2018: 8). Усложняется сам феномен медиапотребления в результате появления разнообразных способов взаимодействия человека с медиасферой (просьюмеризм, цифровая грамотность, сетевые сообщества, коммуникативные практики и т. д.) (Полуэхтова, 2022(а): 214). Новой реальностью явились унификация коллективного и индивидуального медиапотребления и складывание новой системы этических координат, поэтому в настоящее время медиа являются практически единственной и при этом самой значимой средой социализации человека, особенно представителя молодого поколения (Дунас (ред.), 2021: 295, 10–11).
Для того чтобы понять молодого человека, надо разобраться в его отношениях с медиасферой.
Теоретические рамки исследования
Для изучения медиапотребления студентов Донбасса были использованы разные теоретические источники. Прежде всего теория использования и удовлетворения, которая объясняет, как и почему потребители информационной продукции совершают тот или иной выбор медиаконтента, чем они при этом руководствуются и какие желания удовлетворяют. Развитие теории привело к пересмотру представлений об активности аудитории в направлении большей индивидуализации ее отдельных представителей, то есть эффект от воздействия СМИ начал рассматриваться преимущественно как эксклюзивный и адресный для каждого конкретного потребителя. С наступлением эпохи Интернета это стало легкодостижимым. В настоящее время, когда преобладает именно сетевое медиапотребление, с одной стороны, происходит персонализация сетевого «Я» путем его помещения в гетто, ограниченное индивидуально для него подогнанными фильтрами, обеспечивающими «максимальное самовыражение» (Паризер, 2012: 15, 17, 176). С другой стороны, в условиях «коммуникационного изобилия» создается впечатление «перезагрузки» социальности за счет ее расширения буквально до беспредельных границ Сети (Кин, 2015: 8–100, 190).
Что касается исследований медиапотребления непосредственно современной российской молодежи, то принципиальными для данной работы представляются следующие заключения.
Во-первых, в настоящее время юноши и девушки предпочитают поиску в Интернете и переписке по электронной почте популярную платформу Telegram и социальную сеть «ВКонтакте»: в них удобно заходить с мобильных устройств и они заменяют собой сайты. То есть на одном устройстве можно переключаться с потребления на коммуникацию и обратно (Ефанов, Степанченко, 2019: 72; Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Салихова и др., 2020: 19; Дунас, Толоконникова, Гуреева, Вартанов, 2021: 299).
Во-вторых, социальные сети и мессенджеры интересуют молодых людей прежде всего как коммуникационные пространства, а уже потом как поставщики информации – именно в этом качестве Интернет выполняет для молодежи функции традиционных СМИ (Дунас, Толоконникова, Гуреева, Вартанов, 2021: 298–299). Даже для студентов-журналистов СМИ важны не столько в качестве медиапродукта как такового, сколько как трансляторы конкретного информационного содержания, основным же поставщиком интересующего их контента являются социальные сети (Дунас, Толоконникова, Черевко, 2018). Телевидение в настоящее время игнорируется молодежью, так же как и другие традиционные СМИ – печатные и радиоканалы (Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Салихова и др., 2020: 19). Практикуемое ею потребление различного видеоконтента – «нелинейное», то есть селективное (Полуэхтова, 2023: 147; Полуэхтова, 2022(б): 103). Социальные сети, в которых сводятся к минимуму интеллектуальные затраты пользователей (например, TikTok), не способствуют социализации личности (Дворянчиков, Шепелева, 2021: 15).
В-третьих, Сеть воспринимается молодыми людьми в том числе как среда, пространство формирования их собственной идентичности и индивидуальной самореализации (Iogolevich, Vasyura, Maletova, 2019: 37–48). Исследователи обращают внимание на то, что медиапотребление в этом возрасте вообще стремится к большей персонализации (Кульчицкая, Вартанов, Дунас, Салихова и др., 2019), что для юношей и девушек при погружении в мир СМИ главное – это эмоция, получаемая в процессе идентификации определенным образом получаемой информации и способствующая подкреплению социальной ориентации личности. Именно это обстоятельство объясняет исключительную популярность среди молодежи социальных сетей, которые являются не только очевидным медиаресурсом, но и определенной средой, в которой личность обретает идентификацию и вступает в коммуникацию. То есть процесс медиапотребления, происходящий в такой среде, помимо получения информации и эмоций, все больше начинает принимать черты удовлетворения потребностей, обусловленных социальной природой личности. Иными словами, обращение к социальной сети за информацией, эмоцией или коммуникацией имеет в качестве побудительной причины прежде всего социально детерминированный мотив (Дунас, Вартанов, Кульчицкая, Салихова и др., 2019: 18–20).
В-четвертых, высказываются сомнения в способности российских студентов работать с Интернетом как именно источником искомых сведений: говорится об их недостаточной способности оценивать достоверность получаемой информации (Frolova, Rogach, Tyurikov, 2022: 380–389). Отмечается и то, что доверие молодых людей к медиа зависит от свойственных им «цифровых привычек потребления»: чем сильнее адаптация к медиаресурсу, тем выше уровень доверия (Володенков, Белоконев, Суслова, 2021: 31–46).
В-пятых, оценивая качество медиапотребления, эксперты подчеркивают его фоновый характер, когда оно происходит с мобильных устройств параллельно с какими-либо иными действиями, что влияет на глубину восприятия информации (Черевко, Дунас, Толоконникова, 2018: 21–22; Назаров, Иванов, Кублицкая, 2020: 563). При этом допускается, что фоновое нерегулярное медиапотребление может быть спровоцировано эмоциональным настроем в ветке того или иного обсуждения (Кажберова, Чхартишвили, Губанов, Козицин и др., 2023: 44).
В-шестых, манера медиапотребления – это во многом поколенческая характеристика. Современные молодые люди студенческого возраста относятся либо к поздним миллениалам (родившиеся в последние два десятилетия XX в.), либо уже к поколению Z (появившиеся на свет в диапазоне с самого конца XX в. до начала второго десятилетия XXI в.), причем последние по своим характеристикам во многом походят на первых. Молодым людям такого возраста свойственны необходимость совершать постоянный «выбор в условиях нарастающей неопределенности», непрекращающийся поиск собственной индивидуальности, «коммуникационная перенасыщенность», виртуализация реальности (Радаев, 2019: 160, 163, 166, 174, 177, 211).
Из приведенных теоретических положений вытекает цель настоящего исследования – проанализировать медиапотребление студенческой молодежи Донбасса и выявить, отличается ли оно от медиапотребления их сверстников в остальной России.
Методология
Для реализации указанной цели необходимо решить две задачи. Во-первых, определить, к каким именно медиаресурсам обращаются студенты ДНР и как именно они это делают (насколько часто и внимательно просматривают их, в какой мере расположены доверять им). Во-вторых, оценить, как жители Донбасса, получающие высшее образование, воспринимают и интерпретируют медиаконтент (что им интересно и как они оценивают то, что узнают из медиаресурсов).
Ответы на эти вопросы были получены в результате опроса 378 студентов разных курсов, а также направлений подготовки трех вузов ДНР – Донецкого государственного университета (ДонГУ), Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Такое количество респондентов составляет репрезентативную выборку для общего количества учащихся указанных вузов.
Опрос проводился в первой половине декабря 2023 г. Были созданы Yandex-формы с вопросами и вариантами ответов. От опрашиваемых требовалось заполнить их, сообщив о себе основную информацию (возраст, пол, направление подготовки, курс бакалавриата или магистратуры). Гарантировалась анонимность опроса. Время для опроса было выбрано с учетом предполагаемой наибольшей медиаактивности студентов: первая половина декабря – время, когда студенты уже втянулись после летних каникул в учебную повседневность, а зимняя сессия, которая неизбежно влияет на медиапотребление, еще не наступила. Рекрутированием опрашиваемых занимались представители администрации и преподавательского состава указанных вузов. Они сообщали студентам об опросе, информировали все направления подготовки и курсы бакалавриата и магистратуры, обращая внимание студентов на абсолютно добровольный и анонимный характер участия в нем. Численность репрезентативной выборки от учащихся всех трех вузов – 378 человек – была высчитана заранее. После получения такого количества Yandex-форм опрос был завершен и началась обработка его результатов.
Решение первой задачи предполагало получение ответов на вопросы о регулярно и нерегулярно просматриваемых студентами медиаресурсах, о причинах выбора тех и других, о полноте ознакомления с предпочитаемыми СМИ, а также о степени зависимости от них молодых людей. В рамках рассмотрения второй задачи задавались вопросы о тематике, формате и объеме интересующего опрашиваемых и не интересного им медиаконтента, о наличии или отсутствии зависимости интереса (или индифферентности) к материалам СМИ от согласия или несогласия с приводимыми в них оценками.
В бакалавриате наибольший интерес к анкетированию проявили первокурсники и выпускники. Магистрантов обоих лет получилось примерно равное соотношение. Студенток среди опрошенных оказалось на одну треть больше, чем студентов.
Наиболее представительная возрастная группа – это молодые люди, родившиеся в начале 2000-х гг., окончившие школу, сразу поступившие в вуз и сейчас учащиеся на старших курсах бакалавриата или в магистратуре. Таким образом, большинство опрошенных относятся к типичному студенческому возрасту, что тоже важно учитывать при анализе их ответов. При этом активность младших хотя и меньше, но все же подтягивается к старшекурсникам, чего нельзя сказать о тех, кто поступил на учебу уже взрослым человеком. Причем разница в возрасте даже в один год (между родившимися в 2000 г. и в 2001 г.) оборачивается разрывом в количестве голосов чуть ли не в два раза (9% и 15% соответственно).
Медиасреда, в которой находились и которой пользовались респонденты, несмотря на осложнения, вызванные СВО, похожа на медиасреду крупного российского города – столицы субъекта РФ – по доступности в целом сетевого пространства и его основных ресурсов, по присутствию в нем федеральных и местных СМИ в свойственных для остальной страны пропорциях. Для респондентов в силу их возраста произошедшая в 2014 г. гомогенизация медиасреды ДНР с информационным пространством остальной России – это довольно давнее событие, относящееся ко времени, когда они еще практически не обращались к СМИ. Поэтому, в отличие от более старших поколений, представители опрошенной группы стали медиапотребителями уже в такой же информационной среде, в какой происходит знакомство с миром СМИ у их сверстников из других городов страны.
Результаты исследования
Основной вопрос из первого блока – определение перечня наиболее популярных медиаресурсов – проясняет медийные предпочтения респондентов (см. табл. 1).

Приоритетным, регулярно – с большим отрывом от остальных – просматриваемым медиаресурсом называется Telegram, который указали свыше половины опрошенных. На втором месте с отрывом более чем в два раза оказалась социальная сеть «ВКонтакте». За ней с небольшим отрывом идет YouTube, на четвертом месте (тоже с незначительным отставанием от YouTube) респонденты обозначили разные сетевые СМИ, и только на пятом месте – с отрывом почти в два раза – оказалось телевидение. Предпочитающих ТВ студентов оказалось в полтора раза меньше, чем тех, кто затрудняется с ответом.
Получившийся рейтинг медиаресурсов соответствует мнению молодежи в остальной России. А. Н. Гуреева ранжирует социальные сети в соответствии с их популярностью в конце второго десятилетия XXI в. среди вузов России (в данном случае имеется в виду именно институциональное присутствие вузов в этих соцсетях, однако предложенная исследовательницей расстановка данных соцсетей по степени их востребованности соответствовала и мнению медиапользователей, прежде всего студентов): на первом месте – «ВКонтакте», второе место делят Facebook*** и YouTube, на третьем месте – Twitter**, на четвертом – Instagram* (2020: 91). После начала СВО доступ к Facebook***, Twitter**, Instagram* был на территории России заблокирован. Это привело к переформатированию предпочтений соцсетей и резкому росту рейтинга и раньше популярного Telegram, который оттеснил «ВКонтакте» на второе место.
Также в русле общего тренда молодежного медиапотребления, характеризуемого исследователями, наблюдается явное проседание телевидения, набравшего в ходе опроса чуть больше половины предпочтений от показателя интернет-сайтов. Среди студентов Донбасса не пользуется популярностью и подростковая сеть TikTok: ее предпочли всего 6%. Еще в два раза меньше выбравших Instagram*. Вместе с тем YouTube занимает устойчивое третье место, его выбирают почти наравне с сетью «ВКонтакте».
Выбор медиаресурсов объясняется по-разному (см. табл. 2), но в целом можно выделить определенную тенденцию: индивидуальная привычка (31%) и индивидуальный интерес (29%) дают вместе более половины ответов. Рациональный довод о доверии к информации (22%) и популярность данного СМИ в кругу общения (15%) явно отступают на второй план. Интерес также может быть вызван позицией окружения, как и привычкой.

Несмотря на то что социальная мотивация заняла лишь четвертое место, индивидуальные привычки, интересы и доверие также во многом формируются окружением человека. Однако в данном случае важно то, что приоритетными называются именно индивидуальные предпочтения – вне зависимости от того, в какой мере на их формирование повлияла среда респондентов. То есть подтверждается отмеченная исследователями тенденция персонализации медиапотребления.
Значимыми критериями медиапотребления являются системность обращения к «своим» медиаресурсам вообще и ради верификации сведений, полученных из других источников, а также полнота ознакомления с содержанием регулярно просматриваемых СМИ. Как указывалось, современные исследователи подчеркивают ситуативность, каузальность потребления молодежью медиаконтента, восприятие его, что называется, как есть, без критической проверки. Наиболее слабой стороной студенческой медиакомпетентности называются недостаточные навыки оценивания достоверности получаемой информации. В этом смысле суждение, что такой значимый показатель медиаграмотности, как способность к критическому мышлению, у российских студентов довольно высок и им вообще присуще гиперкритическое отношение к СМИ (Bykov, Medvedeva, 2022, 24–35), не противоречит приведенному выше мнению: гиперкритичность здесь как раз может быть следствием неумения верифицировать. Бытует и такое мнение, что доверие молодых людей к медиа зависит от свойственных им «цифровых привычек потребления»: чем привычнее медиаресурс, тем выше к нему уровень доверия (Володенков, Белоконев, Суслова, 2021, 31–46).
Полученные от респондентов ответы укладываются в такую поведенческую схему. Опрошенные не демонстрируют системности в обращении даже к «своим» медиаресурсам. Только 16% из них станут на всякий случай просматривать пропущенный ими выпуск СМИ, к которому они регулярно обращаются, а для 84% это необязательно (см. табл. 3).

Однако тот же самый процент респондентов (84%) склонен проверять случайную информацию (см. табл. 4), что может объясняться как их гиперкритичностью, так и присущими им «цифровыми привычками потребления».

Что касается качества просмотра предпочитаемых медиаресурсов, то четыре пятых студентов ДНР, участвовавших в опросе, не скользят по информационному ресурсу, а в большей или меньшей степени погружаются в его содержание (см. табл. 5).

Важный показатель – зеркальный по отношению к вопросу из таблицы 1 (см. табл. 6), но никак не противоположный.

Нерегулярность в данном случае не означает игнорирования или пренебрежения. Это просто своего рода медиапотребление «второго сорта». Telegram и здесь на первом месте, только с процентом в три раза меньшим, чем в вопросе о регулярном просмотре. Вообще в первой тройке разброс предпочтений мал, по-другому выглядит и последовательность: после Telegram идут сайты СМИ и телевидение. Затем – уже со значительным отрывом – «ВКонтакте» и YouTube. Совершенно очевидно, что этот выбор пяти позиций делали не те, кто расставлял приоритеты по ним же в таблице 1. В данном случае важна определенная кучность выборки: студенты просматривают и регулярно, и нерегулярно одни и те же ресурсы. Нерегулярность может соотноситься с описанным экспертами фоновым медиапотреблением, используемым и в отношении традиционных СМИ (Кульчицкая, Филаткина, 2021) (это подтверждается присутствием телевидения на третьем месте из нерегулярно просматриваемых СМИ, на что указали 14% респондентов).
Симптоматично, что и нерегулярное обращение к тому или иному медиаресурсу преимущественно диктуется личным интересом (58%) или спровоцированным окружающими любопытством (22%) (см. табл. 7). И в этом случае налицо персонализация медиапотребления.

Следующий блок вопросов (о медиаконтенте) начинается вопросом о наиболее интересных темах в просматриваемых медиаресурсах. Более 60% респондентов ответили, что интересуются социальной сферой (см. табл. 8).

Под этим обобщенным понятием имеются в виду сведения, относящиеся к разным кругам общения опрашиваемых – от микрогрупп до больших сообществ, с которыми они так или иначе себя ассоциируют. По этому критерию позиция студентов Донбасса также неоригинальна и сводится к тому, что индивидуальная идентичность молодого человека, его самость формируется во многом за счет сообществ, с которыми он себя ассоциирует, и это его интересует больше всего остального.
А вот в ответах на вопрос о наиболее популярных форматах медиаконтента вырисовывается неожиданная картина. С одной стороны, интервью и экспертные мнения – форматы, в которых в наибольшей степени проявляется индивидуальность поставщика информации, в то время как молодежное медиапотребление стремится к большей персонализации (Кульчицкая, Вартанов, Дунас, Салихова и др., 2019), – вместе дают под 90%. С другой стороны, на первом месте (78%) устойчиво находятся просто новости, то есть, как правило, безлично подаваемая информация о текущих событиях (см. табл. 9).

Выходит, что для студентов трех вузов Донбасса медиаресурсы, помимо удовлетворения их вкусов, выполняют и свою непосредственную роль – информировать, сообщать что-то новое, а не только формировать эмоцию, работающую на обеспечение социальной идентичности.
Для более чем половины опрошенных (60%) объем информационного материала – в отличие от его содержания и формата – не имеет значения (см. табл. 10).

Может сложиться впечатление, что данный показатель идет вразрез с распространенным стереотипом о стремлении современного человека (причем не только молодого) в его медиапотреблении к лаконизму и краткости. Однако и в этом случае полученный результат не следует оценивать прямолинейно: объем не принципиален, поскольку главное – это получение эмоции для поддержания социальной идентичности.
Из ответов на вопрос таблицы 11 следует, что выбираемая информация оценивается почти 60% опрошенных как интересная именно сама по себе, содержательно, а не потому, что вызываетопределенное психологическое состояние от узнавания чего-то близкого и разделяемого или, напротив, азарт от несогласия (см. табл. 11).

Из этого можно заключить, что эмоция, определяемая исследователями в качестве цели медиапотребления, имеет сложную природу и не сводится к непроизвольным и по большей части неподконтрольным проявлениям симпатии или антипатии.
Информативны ответы на негативный вопрос таблицы 12. Неожиданным представляется отсутствие у почти половины опрошенных интереса к экономическим проблемам, под которыми понимаются не только какие-то макроэкономические вопросы, но и повседневные заботы каждого. И тем более неожиданно, что интереса к этому нет в проблемном регионе.

В ответах вопрос таблицы 12 нет полной зеркальности по сравнению с ответами на вопрос таблицы 8: убывание интереса не во всех случаях означает рост неинтересности – и наоборот. Например, труднообъяснимо отношение к материалам по внешней политике и международным отношениям (в обоих случаях они оказались на втором месте с примерно сопоставимым процентом голосов), тем более в ДНР, обстановка в которой напрямую зависит от противостояния России и коллективного Запада.
Как видим, критерий «согласен–не согласен» не имеет принципиального значения. Причем применительно к неинтересным материалам отсутствие зависимости неинтересности от показателя «согласен–не согласен» присуще даже еще большему числу респондентов (68%) (см. табл. 13).

То есть снова, как и в ответах на вопросы таблиц 9 и 11, подтверждается, что связи между эмоцией, подкрепляющей индивидуальную и коллективную идентичности молодого человека, и новизной, а также согласием или несогласием непрямолинейные.
Выводы
Результаты опроса студентов Донбасса позволяют заключить, что выбираемые ими медиаресурсы, предпочитаемые форматы медиаконтента и его распространенные оценки свидетельствуют о схожести их медиапотребления с медиапотреблением аналогичной возрастной и социальной группы в остальной России. Особенности такого медиапотребления проанализированы современными исследователями и сводятся к использованию социальных сетей как приоритетного коммуникационного – и поэтому также информационного – пространства, к формированию сетевой индивидуальной и коллективной идентичности, к персонализации восприятия поставляемого электронными СМИ содержания, к обеспечению через эмоцию определенной социальной ориентации личности в медиасфере, к зависимости способности критической оценки материалов СМИ от привычек и сформировавшейся адаптированности, к распространенности фонового характера восприятия медиапродукта.
Опрошенные студенты в полном соответствии с приведенными заключениями авторов, изучающих молодежное медиапотребление, предпочитают сетевые медиаресурсы, им присуща привязанность, пусть и ситуативно сложившаяся, к определенным СМИ, к которым они обращаются не всегда системно, но при этом испытывают к ним доверие. Респонденты сочетают внимательное и фоновое восприятие сведений из медиасреды, процесс получения ими информации персонализирован, но это не размывает, а лишь укрепляет их социальную идентичность, формирующуюся в процессе пребывания в мире СМИ. Налицо тесное сочетание у студентов Донбасса двух мотиваций медиапотребления – удовлетворения персонального запроса и поддержания определенного социального имиджа: стремление к реализации индивидуальных предпочтений не противоречит, но достраивает образ молодого человека в той группе, с которой он себя идентифицирует. Респонденты обращаются к медиаконтенту за эмоцией, но эта эмоция не сводится к первичным психологическим всплескам от согласия или несогласия с получаемой информацией, равно как и не обуславливается интересом или его отсутствием.
Примечания
* Принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской.
** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России.
*** Принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской.
Библиография
Вартанова Е. Л. Медиаграмотность школьников и учителей в условиях цифровизации российского образования // Медиа в образовательной среде: коммуникации и безопасность детей / под ред. Е. Л. Вартановой, Т. И. Фроловой. М.: Факультет журналистики МГУ, 2018. С. 5–22.
Володенков С. В., Белоконев С. Ю., Суслова А. А. Особенности структуры информационного потребления современной российской молодежи: на материалах исследования среди студентов-политологов Финансового университета // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 2021. Т. 23. № 1. С. 31–46.
Гуреева А. Н. Медиакоммуникации высшей школы: учебное пособие. М.: Факультет журналистики МГУ, 2020.Дворянчиков Я. В., Шепелева Е. С. Роль TikTok в социализации детей и подростков // Форум молодежной науки. 2021. № 6. Вып. 2. С. 11–16.
Дунас Д. В., Вартанов С. А., Кульчицкая Д. Ю., Салихова Е. А., Толоконникова А. В. Мотивационные факторы медиапотребления «цифровой молодежи» в России: результаты пилотного исследования // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2020. № 2. С. 3–27.
Дунас Д. В., Вартанов С. А., Кульчицкая Д. Ю., Салихова Е. А., Толоконникова А. В. Теоретические аспекты изучения медиапотребления российской молодежи: к пересмотру теории использования и удовлетворения // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2019. № 2. С. 3–28.
Дунас Д. В., Толоконникова А. В., Гуреева А. Н., Вартанов С. А. Мотивация использования медиакоммуникационных каналов российскими студентами // Вопросы теории и практики журналистики. 2021. Т. 10. № 2. С. 285–301.
Дунас Д. В., Толоконникова А. В., Черевко Т. С. Наблюдение за потреблением информационного контента студентами факультета журналистики МГУ // Медиаскоп. 2018. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2483 (дата обращения: 21.04.2024).
Ефанов А. А., Степанченко В. А. Влияние поколения Z на функционирование института медиа: прогностическая модель // Информационное общество. 2019. № 3. С. 69–72.
Кажберова В. В., Чхартишвили А. Г., Губанов Д. А., Козицин И. В., Белявский Е. В., Федянин Д. Н., Черкасов С. Н., Мешков Д. О. Агрессия в общении медиапользователей: анализ особенностей поведения и взаимного влияния // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2023. № 3 (48). С. 26–56.
Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015.
Кульчицкая Д. Ю., Вартанов С. А., Дунас Д. В., Салихова Е. А., Толоконникова А. В. Медиапотребление молодежи: специфика методологии исследования // Медиаскоп. 2019. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2529 (дата обращения: 21.04.2024).
Кульчицкая Д. Ю., Филаткина Г. С. Фоновое медиапотребление как часть медиапрактик российской «цифровой молодежи» // Медиаскоп. 2021. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2680 (дата обращения: 21.04.2024).
Медиапотребление «цифровой молодежи» в России / Под ред. Д. В. Дунаса. М.: Факультет журналистики МГУ, 2021.
Назаров М. М., Иванов В. Н., Кублицкая Е. А. Медиапотребление в возрастных когортах: ТВ и Интернет // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Социология». 2020. Т. 20. № 3. С. 560–571.
Паризер Э. За стеной фильтров. Что Интернет скрывает от вас? М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.
Полуэхтова И. А. (а) Медиапотребление в цифровой среде: к вопросу о методологии исследований // Знание. Понимание Умение. 2022. № 3. С. 206–218.
Полуэхтова И. А. (б) Практики медиапотребления российской молодежи в цифровом обществе (по результатам эмпирического исследования) // Знание. Понимание Умение. 2022. № 3. С. 90–107.
Полуэхтова И. А. Телевидение и его аудитория в эпоху Интернета. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2023.
Радаев В. В. Миллениалы: как меняется российское общество. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.
Черевко Т. С., Дунас Д. В., Толоконникова А. В. Новости в условиях интернетизации: анализ новостного потребления студентов // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2018. № 1. С. 3–25.
Bykov I., Medvedeva M. (2022) Importance of Media Literacy for Political Communication in Russia: A Case of Student Community. Media Education (Mediaobrazovanie) 18 (1): 24–35.
Frolova E., Rogach O., Tyurikov A. (2022) Student’s Media Competence: New Opportunities to Counteract Information Manipulations in Network Interactions. Media Education (Mediaobrazovanie) 18(3): 380–389.
Iogolevich N., Vasyura S., Maletova M. (2019) Student as the Center of Media Education: Personality Boundaries and Communicative Activity. Media Education (Mediaobrazovanie) 59 (1): 37–48.
Поступила в редакцию 01.07.2024