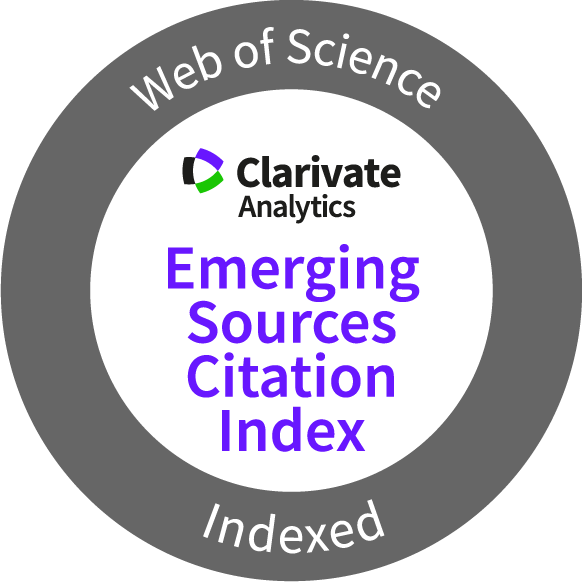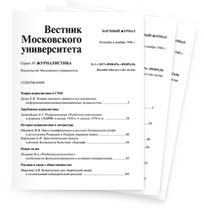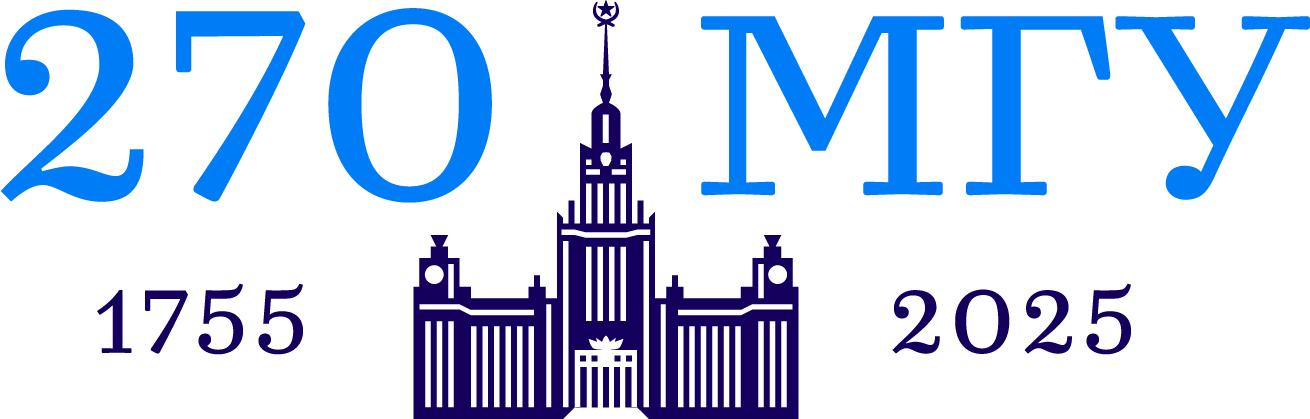«Еженедельник «Жизнь и суд» (1911–1917 г.) в контексте типологических трансформаций прессы начала XX в.
Скачать статьюкандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия; ORCID 0000-0003-0724-182X
e-mail: oskruglikova@spbu.ruкандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия; ORCID 0000-0002-6964-7481
e-mail: k.silantiev@spbu.ruРаздел: История журналистики
В статье анализируется композиционно-графическая и содержательно-тематическая модели специализированного иллюстрированного еженедельника «Жизнь и суд» в контексте типологического развития прессы начала XX в. На примере столичного журнала «Жизнь и суд» рассматривается вопрос влияния экономических, технологических и социальных факторов на появление в начале XX в. особого эклектичного формата прессы, сочетавшего тематическую специализацию и стремление к расширению круга затрагиваемых проблем, разнообразие иллюстративного оформления, доходящее до избыточности, прагматический коммерческий подход и гражданский пафос. В статье впервые на основе материалов архивов (РГИА, РО ИРЛИ) раскры- ваются этапы творческой биографии предприимчивого издателя начала XX в. А. С. Залшупина.
DOI: 10.55959/msu.vestnik.journ.5.2024.115139Введение
Типологическая картина прессы начала XX в. не была стабильна (Иванова, 2013). Во-первых, высокая динамика социальных процессов пореформенной России, постепенное распространение грамотности и урбанизация способствовали формированию типа массового читателя – малообразованного городского обывателя. Нового читателя интересовали новости политики и культуры в их сугубо прикладном аспекте, не как философские абстракции, а как факторы, влияющие на бытовую повседневность, а в произведениях литературы новый читатель видел более форму досуга, чем путь духовного развития. В этот период, по справедливому замечанию А. И. Рейтблата, «резкий рост числа грамотных существенно перекроил “читательскую карту” России», а «различия между читательской элитой и читательскими низами стали еще больше» (2009: 3).
Во-вторых, интенсификация экономических процессов, связанных с формированием капитализма, способствовала приходу в издательскую сферу предпринимателей, воспринимавших журналистику в большей степени как инструмент извлечения прибыли и способ диверсификации направлений инвестиционной активности, нежели как сферу идеологического влияния. Одновременно с этим технологические новшества – совершенствование полиграфии и развитие фотографии – открывали перед предпринимателями издательской сферы широчайшие возможности для привлечения внимания массового читателя к своим издательским проектам. В условиях, когда «быстрая капитализация страны, развитие грамотности, усложнение общественной жизни <...> вызывали стремительный количественный рост периодики» (Махонина, 2009: 24), приобретали особенное значение методы конкурентной борьбы за читателя.
В этих условиях размывались устоявшиеся типологические границы и появлялись неустойчивые гибридные форматы изданий, стремившихся на разных этапах своего существования в разных пропорциях сочетать тематическую специализацию с общедоступностью, серьезную общественно-политическую проблематику с популярностью и развлекательностью иллюстрированного журнала. В качестве примера такого динамичного формата, с удивительно пестрым содержанием и нестабильной моделью оформления и верстки, представляет безусловный интерес еженедельный иллюстрированный журнал «Жизнь и суд». Еженедельники как тип издания были широко распространены в этот период и, по подсчетам исследователей, составляли около трети всего массива русской прессы (Воронкевич, 1980: 140), являясь «как бы компромиссом между двумя прежними основными типами журналистики: ежедневной газетой и толстым ежемесячным журналом»1. Однако, признавая, что еженедельник к началу XX в. потеснил с прежних доминирующих позиций толстый журнал (Махонина, 2009), и отмечая широкое разнообразие его типологических модификаций: общественно-политические еженедельники, научно-популярные, сатирические, еженедельники-манифесты (Хомяков, 2022; Асташкин, 2013), – исследователи обращают мало внимания на еженедельники с заявленной прикладной тематической специализацией, к числу которых можно отнести изучаемый журнал.
Общая характеристика издания
Еженедельник «Жизнь и суд» выходил в Санкт-Петербурге с 1911 по 1917 г. За время своего существования журнал неоднократно менял подзаголовок, стремясь максимально точно обозначить для читателя формат и характер издания. Эти изменения симптоматичны: журнал начал издаваться как еженедельный иллюстрированный популярный общественно-юридический, с середины 1916 г. обозначался как еженедельный общедоступный популярноюридический и судебно-уголовный литературно-общественный иллюстрированный, а с конца 1916 г. – как еженедельный иллюстрированный популярно-юридический и судебно-уголовный журнал.
У современного читателя и исследователя не может не вызвать удивления оригинальная формулировка названия, в котором странно соотнесены разноуровневые понятия. Слово «суд» как наименование одного из институтов государственной власти может быть, конечно, понято расширительно – как обозначение сферы юридических отношений в целом, но даже при такой трактовке его сопоставление со всеобъемлющим понятием «жизнь» на первый взгляд представляется трудно интерпретируемым. Однако, судя по обилию аналогичных наименований в прессе этого периода, издатели «Жизни и суда» скорее следовали общей тенденции, чем проявляли оригинальность. В начале XX в. насчитываются десятки изданий с подобными названиями: «Вера и Жизнь», «Жизнь и люди», «Жизнь и социализм», «Жизнь и хозяйство», «Воспитание и жизнь», «Электричество и жизнь», «Рампа и жизнь», «Кинотеатр и жизнь» и пр.
Можно предположить, что именно нестабильный характер типологической структуры прессы этого периода и стремление всех издателей найти свою рыночную нишу приводили к тому, что названия сочетали в себе, с одной стороны, указание на какую-то тематическую специализацию, чтобы продемонстрировать читателю свою уникальность (суд, рампа, электричество, кинотеатры), с другой – стремились подчеркнуть, что ни одна из сфер текущей жизни, несмотря на специализацию, не ускользнет от внимания издателей, что наряду с особенной темой в журнале будет освещаться и вся остальная текущая жизнь. Так выражалась внутренняя интерференция намерений издателей, понимающих, что без специализации невозможно фрагментировать аудиторию и найти «своего» читателя, но при этом опасающихся, что эта ниша окажется слишком узкой и не обеспечит изданию финансовый успех.
Необходимо отметить, что забота о коммерческом успехе и доходности издания ясно отражается не только в названии, но и в содержании журнала. «Жизнь и суд» подходит к установлению взаимоотношений с читателем довольно прагматично, предлагая подписчику как одно из несомненных преимуществ журнала возможность задать личный вопрос юристам издания и получить на страницах еженедельника бесплатную юридическую консультацию. Однако вскоре журнал вводит дополнительные условия. В 1915 г., ссылаясь на то, что число подписчиков еженедельника превысило 100 000, а потому и число запросов на юридическую консультацию возросло до 400 запросов в неделю, редактор уведомляет, что «юридический отдел журнала не имеет, к сожалению, абсолютно никакой физической возможности отвечать на все поступающие запросы НЕМЕДЛЕННО, а вынужден давать ответы в строгом порядке, по очереди поступления запросов», посему те, кто нуждается в срочной консультации, могут ускорить дело, сопроводив каждый свой запрос суммой в 1 рубль «для оплаты экстренной работы по подготовке ответа и пересылке его заказным письмом». Впрочем, от своих первоначальных обязательств перед теми подписчиками, которые не готовы платить, но готовы ждать ответа, журнал не отказывался, подтверждая, что «те читатели, которые не нуждаются в экстренном ответе, найдут его в свое время бесплатно на страницах журнала».
Коммерческий подход к продвижению издания наблюдался и в стремлении поддержать интерес читателя с помощью особых номеров. Начиная с 28 июня 1915 г. редакция выпускает специальные номера, посвященные каждый какому-то особому вопросу – как выражается редакция, «текущей злобе дня». Этой злобе дня в спецномере планировали уделять 10–11 страниц, остальной материал: беллетристика, юридические статьи и иллюстрации – предполагалось давать обычный. Специальные номера были богаче оформлены, имели особую иллюстрированную обложку помимо стандартной. Объявляя об этом новшестве, журнал анонсировал темы ближайших спецномеров: лотерейный, англо-французский, морской, воздушный, дачно-курортный, кинематографический, театральный. Необходимо отметить, что подобный прием привлечения читательского внимания не был эксклюзивной особенностью рассматриваемого журнала, а широко использовался в журналистике этого периода.
Издание также предлагало своим подписчикам бесплатные приложения юридической тематики – брошюры, содержащие обзор основных пунктов актуального законодательства в определенной сфере: например, брошюры «Бракоразводный процесс» и «Крестьянское право». Однако редакции не всегда удавалось своевременно выполнять свои обязательства перед подписчиками в условиях войны. Главной причиной издательской непунктуальности были логистические проблемы: в условиях загруженности железных дорог военными нуждами гражданские грузы сильно задерживались, и многие петербургские редакции не получали бумаги из Финляндии2.
К биографии издателя
Можно предположить, что такой продуманный коммерческий подход к организации работы редакции связан в том числе и с особенностями характера и спецификой творческой биографии его издателя Александра Семеновича (Абрама Соломона) Залшупина (1867–1929). Об Александре Семеновиче известно мало – многие обстоятельства его жизни нуждаются в уточнении. Дату его рождения можно уверенно зафиксировать по предоставленным им самим биографическим данным. Что касается даты его смерти, в словаре И. Ф. Масанова указывается «не ранее 1899 г.» (1960: 191), но поскольку журнал «Жизнь и суд» издавался Залшупиным в России вплоть до прихода к власти большевиков, очевидно, что он застал все бурные события начала ХХ в. Сведения о жизни Залшупина после революции весьма скудны, удалось обнаружить только косвенные указания в словарной статье, посвященной его сыну. Сергей Александрович Залшупин, художник-график, в эмигрантской среде был известен под псевдонимом Серж Шубин. В Германии он выпустил серию портретов русских писателей и стал автором иллюстраций к переводу на русский «Алисы в стране чудес», выполненному В. В. Набоковым. В биографическом словаре «Художники русской эмиграции (1917–1941) ему уделено несколько строк, где, в частности, сказано, что он «сын Александра Семеновича З. (1867–1929), известного экономиста, редактора-издателя петербургской газеты “Русский экономист”» (Северюхин, Лейкинд, 1994: 204). Поскольку издатель «Жизни и суда» не находится в фокусе внимания составителей словаря, они не указывают, где скончался Залшупин-старший, мы можем лишь предполагать, что, вероятно, он так же, как и сын, эмигрировал в первые послереволюционные годы и умер уже за пределами родины. Сергей Залшупин умер в Париже, пережив отца всего на два года.
Основным источником сведений о творческом пути «экономиста-публициста» является краткая автобиография, составленная им для подачи заявления о вступлении в Союз взаимопомощи русских писателей и сохранившаяся в архиве С. А. Венгерова (РО ИРЛИ РАН «Пушкинский Дом»): «<...> родился в г. Вилейке Виленской губ. 3 июля 1867 года в еврейской интеллигентной семье. По окончании гимназии в 1886 г. поступил в С.-Петербургский Университет на юридический факультет, каковой окончил в 1890 г. по первому разряду. Еще на университетской скамье посвятил себя изучению государственных наук и под руководством проф. Коркунова занимался теорией государственного права. В это время была написана работа “Органическая теория общества”, некоторые главы которой были напечатаны в 1891 г. в журнале “Русское богатство” под редакцией Оболенского. В 1889 г. под руководством проф. В. А. Лебедева стал заниматься финансовым правом и представил сочинение на заданную Советом Университета тему “О Государственном кредите”, за которое удостоился награды золотой медалью. В 1892 г. переработал это сочинение и выпустил в свет первую его часть под заглавием “Очерк теории государственного кредита” СПб. 1892 г., 160 стр. in octavo. Одновременно с сим сотрудничал в “Экономическом журнале” А. П. Субботина, где была напечатана статья под заглавием “Долги или подати”, а также в журнале “Наблюдатель” под ред. П. Безобразова, где были напечатаны статьи “Английские рабочие союзы” и “Английский публицист XVII века”»3.
Некоторые биографические сведения об издателе «Жизни и суда» можно также обнаружить в личных делах его как студента юридического факультета Петербургского императорского университета и служащего Департамента гражданской отчетности (РГИА)4, однако с точки зрения данного исследования интерес для нас представляют именно его публицистические опыты. Сочинения Залшупина «Долги или подати» (финансовый очерк) и «Вопросы банковой политики (к реформе денежного обращения)» были довольно широко известны, но его главным научно-публицистическим трудом стал «Очерк теории государственного кредита» (1892). Отзывы на эту книгу были помещены в заметных журналах: «Вестник Европы» (1892, No 1), «Русская мысль» (1892, No 5), «Русское богатство» (1892, No 7), «Северный вестник» (1892, No 3).
В автобиографии Залшупин также отмечает, что его литературное поприще началось в 1889 г., а среди изданий, в которых он принимал участие, Залшупиным перечислены «Северный Вестник», «Новости», «Биржевые Ведомости», «Наблюдатель», «Экономический журнал» под редакцией А. П. Субботина, «Вестник финансов» и «Русское богатство» под руководством Л. Оболенского5. Печатался он под псевдонимами А.З., З-ин, А.
В дальнейшем, как отмечает издатель «Жизни и суда», он, «посвятив себя изучению экономических вопросов, помещал статьи в разных повременных изданиях, принимая деятельное участие в газете “Биржевые Ведомости”, “Новостях”, в “Речи” и газете “День”, издателем которой он состоял в течение года совместно с У. Р. Кугелем. В 1899 г. основал финансово-экономический журнал “Промышленный мир”, переименованный впоследствии в “Русский Экономист”, в котором под редакцией Залшупина принимали участие выдающиеся русские экономисты. Названный журнал принужден был закрыть в 1906 г., вследствие привлечения его по политическому делу, результатом которого явилась административная ссылка, вскоре, впрочем, отмененная. В течение его литературно-публицистической деятельности выпустил в свет несколько книг и брошюр по экономическим, финансовым и банковым вопросам. Как то “Вопросы банковой политики” 1896 г. и Энциклопедию банкового дела 1904 г. совместно с М. Н. Гессеном»6.
В середине 1890-х гг. Залшупин также вел переписку по вопросу своего участия в газете «Санкт-Петербургские ведомости» с Э. Э. Ухтомским, предлагая свои услуги по ведению в газете биржевой хроники. В письме Ухтомскому Залшупин так поясняет свою идею: «Биржевые хроники обыкновенно доставляются во все редакции кем-либо из служащих в здешних банках или банкирских конторах, при чем “субъективизм” этих лиц отражается невыгодно на издании и читателях. Я человек независимый от банковых сфер, так как состою на государственной службе и будучи, в качестве экономиста, хорошо знаком с биржевыми и банковыми операциями мог бы доставлять в Вашу газету ежедневные отчеты о бирже и еженедельные обзоры биржевой деятельности. Я не новичок в газетном и журнальном деле, так как с момента окончания Университета сотрудничал в Вестнике финансов, Экономическом журнале, Наблюдателе, Биржевых Ведомостях и в газете Новости»7.
Залшупин неоднократно предпринимал попытки расширить круг своих издательских проектов, однако они чаще всего наталкивались на противодействие со стороны цензурного ведомства. В 1897 г. Александр Семенович подает прошение об издании газеты «Промышленная Россия», так описывая идею предполагаемого издания: «Замечаемый в последнее время подъем производительных сил России в связи с беспримерным в истории ростом финансового преуспеяния нашего отечества привлек внимание русского общества на экономические вопросы и выдвинул на первый план необходимость экономического изучения нашего обширного отечества с целью возможно правильного развития народной предприимчивости и энергии»8.
Так как заявитель состоял в этот момент на службе в Департаменте гражданской отчетности, Главное управление по делам печати сочло необходимым адресоваться к его руководству за характеристикой и получило из департамента следующий ответ: «<...> в Департаменте не имеется вообще сведений, кои бы препятствовали к разрешению Коллежскому Асессору Залшупину издавать еженедельную газету под названием “Промышленная Россия”. Но при этом Департамент долгом считает присовокупить, что редактирование г. Залшупиным еженедельной газеты не может не представлять некоторых неудобств для исполнения его прямых служебных обязанностей»9. И несмотря на то что Залшупин, понимая важность этого аргумента, со своей стороны гарантировал, что в случае получения разрешения немедленно последует прошение об отставке, устраняющее данное неудобство, все-таки Главное управление по делам печати сочло необходимым отказать, полагая, что «выходит в свет значительное количество финансово-экономических изданий, вполне удовлетворяющее потребности в них», скорее всего, из опасения, что, во-первых, «такие издания(серьезного беспристрастного обсуждения экономических и финансовых вопросов) ищут популярности, возбуждая наиболее щекотливые экономические вопросы», а во-вторых, предложенная заявителем программа «представляется слишком широкою для специального издания».
Сформулированные цензурным ведомством причины отказа представляются весьма важными как для понимания характера взаимодействия властей и прессы в этот период, так и для понимания причин возникновения такого специфического формата, как журнал «Жизнь и суд». Очевидно, многие издатели полагали, что получить разрешение на специализированное издание, имеющее характер научной беспристрастности и не обращенное на первый взгляд к массовому читателю, а только к специалистам, будет проще. Но при этом держали в уме возможность впоследствии незаметно для цензурного ведомства расширить границы своей программы и начать касаться острых вопросов в самых разных областях культуры, экономики и политики. Вероятно, эта ситуация была отчасти причиной возникновения такого формата, в котором формально заявленная специализация издания дополнялась не ограничивающим издателей расширением «и жизнь», позволяющим писать о чем угодно. С другой стороны, и мимо внимания цензурного ведомства, видимо, не прошел этот маневр публицистов и издателей, так что оно бдительно не допускало появления журналов «со слишком широкой для специализированного издания» программой.
Это предположение косвенно подтверждается и тем, что разрешенное Залшупину издание «Промышленный мир» цензурным ведомством оценивалось как издание в цензурном отношении в целом спокойное, поскольку не выходило в тематическом отношении за пределы своей специализации («Еженедельное издание посвящено рассмотрению вопросов экономической и торговопромышленной жизни России. Много места уделяется также еженедельным обзорам деятельности биржи и в особенности торговопромышленной и биржевой хронике как русской, так и заграничной»10), а также имело сравнительно небольшой тираж и распространение (1000 экземпляров), свойственные изданию, ориентированному на специалистов, а не на массового читателя. При этом, когда редактор и издатель «спокойного в цензурном отношении» журнала, очевидно рассчитывая на свою положительную репутацию в глазах цензуры, подал прошение об издании «еженедельного иллюстрированного популярно-научного и литературного журнала под названием “Знание”», цензурное ведомство сочло за лучшее «ходатайство г. Залшупина об издании нового популярного научного и литературного журнала с обширною программой отклонить»11.
Приведенные факты издательской биографии основателя12 «Жизни и суда» Залшупина во многом объясняют выраженный коммерческий характер издания и отчасти обосновывают сложное соотношение специализации и тематического разнообразия, имевшее место в журнале. Можно предположить, что эти черты были обусловлены личной экономической предприимчивостью и профессиональной специализацией издателя, который, имея юридическое образование, всю свою исследовательскую деятельность связал с теорией экономических процессов.
Жанрово-тематическая специфика журнала
В свидетельстве о разрешении журнала «Жизнь и суд» в 1911 г. Главное управление по делам печати перечисляло следующие пункты программы издания: «1. статьи, рассказы, фельетоны и юмор; 2. иностранный отдел; 3. судебный, биржевой и театральный отделы; 4. хроника; 5. рисунки; 6. портреты и шаржи; 7. юридическая помощь; 8. вопросы и ответы читателей; 9. письма в редакцию; 10. спорт; 11. задачи на премию; 12. объявления»13. Исследователи называют «<...> наличие иллюстраций в качестве самостоятельных материалов издания; обязательный беллетристический отдел; компилятивные обзоры публикаций за неделю по различным общественно-политическим вопросам» (Воронкевич, 1984: 146) наиболее характерными структурными элементами распространенного в первой четверти XX в. типа еженедельника, так что заявленная программа не выглядит особенно оригинальной.
Минимально необходимая стабильность формата, позволяющая воспринимать издание как единое целое, а не набор отдельных номеров, полностью самостоятельных по форме и содержанию, обеспечивалась несколькими постоянными, «опорными» рубриками с неизменным стилем оформления, а за пределами этих рубрик и в содержании, и в оформлении царил хаос творческого поиска. К числу постоянных рубрик относились «Юридическая помощь» (юридические консультации в ответ на запросы читателей), «Гримасы Фемиды» (судебные казусы прошлого), «Почтовый ящик» (ответы редакции на письма неюридического характера). Визуальное оформление этих рубрик было стабильным, повторялся характер верстки текста и художественное начертание ее названия, вписанное в графический рисунок. Однако по отношению друг другу рубрики были оформлены совершенно разностильно, не создавая впечатления гармоничного единства (рис. 1).

Коммуникация издания с читателем в рубрике «Почтовый ящик» имела своеобразный тон, порой довольно колкий и агрессивный со стороны редакции. Рубрика в целом была предназначена для публикации ответов на обращения и письма читателей, не нацеленные на получение юридической помощи. За логотипом рубрики неизменно следовало строгое уведомление со стороны редакции, что она «в особую переписку не входит, если даже присланы марки на ответ», а присланные в редакцию «неподошедшие фотографии, мелкие рукописи и стихотворения уничтожаются». При условии оплаты автором обратной пересылки могли быть возвращены только «ценные вещи, если сохранение их заранее оговорено»14. Оценка рукописей производилась в грубоватой манере: указывался город, фамилия и инициалы лица, адресовавшегося в редакцию (отметим, житель маленького провинциального городка в таком случае гарантированно оказывался узнанным своими земляками), а далее следовал ответ редакции, например такого содержания: «Лучше быть выруганным умными, чем заслужить одобрение глупых – пишете вы. Мы нашли для вас прекрасный выход: стихотворение не будет напечатано, а потому умные вас не выругают, а глупые не одобрят»15. Ответы приблизительно в том же тоне: «Не омрачайте красот рая вашей поэзией и перестаньте писать стихи»16, «<...> поступите в приготовительный класс»17 и тому подобные – составляют около половины всех публикаций этой рубрики. Положительные характеристики присланных произведений не встречаются: очевидно, с теми авторами, в чьих рукописях редакция была заинтересована, велась частная переписка. Остальные публикации рубрики, помимо колкостей авторам отклоненных произведений, составляли нейтральные информационные сообщения – в основном адреса других редакций или учреждений.
Конечно, подобная манера взаимодействия с читателями на первый взгляд кажется вызывающей и малоперспективной для поддержания читательского интереса, но на самом деле в данном случае, вероятно, редакция справедливо рассчитывала на тот же психологический эффект, который используют многие современные провокативные блогеры. Читателям нравится читать колкости, направляемые в адрес других.
Необходимо отметить, что выбор редакцией произведений беллетристики для публикации осуществлялся в целом в русле заявленной тематической специализации: в журнале помещали детективные рассказы отечественных авторов и переводные произведения иностранных мастеров (например, Конан Дойля), порой, в духе прессы этого периода, без указания наименования иностранного оригинала, а лишь с упоминанием о том, что данное произведение – перевод с английского, выполненный таким-то.
Для редакционных заметок и криминальных рассказов журнал часто использовал кричащие заголовки, свойственные малой прессе: «15 лет в ужасном застенке», «Помещик – отравитель и растлитель», «Красавица-сыщик», «Воскресший труп», «Дикие семейные нравы», «Зубной врач-насильник» и пр.
Излюбленным жанром «Жизни и суда» являлись реальные истории аферистов, литературно обработанные журналистами издания и составленные либо по материалам уголовных дел18, либо по дневниковым записям разоблаченных преступников, очевидно не лишенных специфического тщеславия и желавших предать свои похождения гласности19.
Однако время вносило свою лепту в тематику всех изданий: наряду с криминальной и юридической темой все большее внимание редакции приходилось уделять теме войны. Отвечая на недоумение, выраженное по этому поводу одним из подписчиков, редакция справедливо замечала: «<...> что в “Жизни и суде” печатаются рассказы на военные темы – вполне естественно: журнал не может не откликаться на то, что единственно теперь волнует всех»20.
Своеобразие оформления
Вероятно, в духе общего коммерческого подхода к изданию, постоянно борясь за внимание читателя, журнал стремился продемонстрировать на своих страницах все новейшие достижения полиграфии. Редакция насыщала иллюстративную часть издания самыми разнообразными типами изображений: в одном номере, а порой и на одной полосе, могли эклектически соседствовать монохромные силуэты, мелкоштриховые гравюры, виньетки и фотографии разного типа обрезки. Довольно часто публиковались портреты и даже ростовые фотографии персонажей, отделенные от фона, то есть не имевшие традиционной формы прямоугольника или овала, а четко обрезанные по контуру фигуры, как бы «вырастающей» непосредственно из пространства газетной полосы, что для полиграфистов того времени представлялось весьма нетривиальной технической задачей (рис. 2).

С изданием сотрудничал широкий круг художников: Н. Дункель, В. Сварог, И. Томковид и др. Нельзя сказать, что редакция журнала была вполне последовательна в вопросе атрибуции иллюстраций. Большинство рисунков сопровождались указанием имени художника, иногда указывались даже обстоятельства создания (например, отмечалось, что это рисунок с натуры)21, в то же время авторы фотографий указывались гораздо реже. Вероятно, фотография в это время воспринималась сугубо в техническом аспекте, не рассматривалась как творческое произведение. Фотограф указывался в тех случаях, когда требовалось подчеркнуть эксклюзивный характер изображения: так, например, отмечается, что снимки событий Первой мировой войны сделаны специальным фотокорреспондентом издания Шубским-Корсаковым в регионе, «близком к району последних боев в Галиции»22, то есть практически на передовой.
Вообще злободневная тема освещения хода военных действий в 1914–1917 гг. занимала в издании важное место и являлась основной с точки зрения иллюстрации. Визуальные материалы военной тематики в журнале «Жизнь и суд» были представлены, главным образом, фотографией: портреты военных корреспондентов, военачальников, солдат и офицеров, проявивших героизм и мужество и представленных к наградам, новинки военной техники, такие как военные самолеты, аэростаты и пр., но более всего – фотозарисовки окопного быта, военной повседневности, будничной и одновременно героической работы врачей и сестер милосердия в прифронтовых госпиталях. Компоновка этих изображений была зачастую хаотичной, фотографии, обрезанные по форме круга и овала, соседствовали с прямоугольными изображениями, как горизонтально, так и вертикально ориентированными, фотографии фрагментами накладывались друг на друга, разрушали колонную верстку сопроводительного текста (рис. 3).

Иногда редакции, вероятно, хотелось гармонизировать общую композицию полосы, и на полосе размещали незначительное число фотографий, отделенных от основного текста таким классическим элементом журнальной верстки, как виньетка, но и в этих случаях редко удавалось соблюсти ту грань умеренности, которая создает визуальную гармонию (рис. 4).

Вторым по частотности типом военной иллюстрации в журнале была карикатура. Художники стремились высмеять особенности национального характера противника: педантичную организованность немцев, стремящихся привести любые формы общественной жизни и культуры к солдатской муштре, неудачи противника на поле боя, трусость немецких солдат, размещающих свои части в селениях бельгийских крестьян и таким образом избегающих прямых обстрелов со стороны своих более гуманных противников, не желающих стрелять по мирным жителям, неудачи немцев в сфере международной дипломатии. По последней теме «Жизнь и суд» охотно копировал карикатуры лондонского Punch (рис. 5).

На страницах журнала также публиковались полотна знаменитых живописцев, причем воспроизводились они именно как фотографии с оригинала. Можно сказать, что в отношении живописи журнал выполнял просветительскую функцию. Среди обращений редакции к произведениям станковой живописи можно выделить два типа: демонстрация новых, впервые экспонируемых полотен, информирующая читателя о картине как актуальном событии в мире искусства, или актуализация хорошо известного живописного полотна в современном контексте за счет сопровождающего текста и ассоциативного сопоставления с текущими общественно-политическими событиями. Примером первого типа публикаций может служить помещение фото экспонировавшейся на выставке петроградских художников в 1915 г. картины Н. Благовещенского «Проводы на войну»23 или заметка о приобретении Императорской академией художеств картины Л. Попова «Медицинский осмотр новобранцев»24. Примером актуализации известной картины в новом контексте является публикация знаменитого полотна И. Е. Репина «Не ждали» в сопровождении стихотворения Михаила Волошина25.
Можно встретить на страницах журнала также и примеры того, как фотографии событий текущего времени ассоциативно связываются в сознании читателей с известными шедеврами живописи, без визуального воспроизведения последних. Фотография, запечатлевшая сценку фронтовых будней с французского театра военных действий, изображала солдата, который с ложки подкармливал прирученных им птенцов совы, и сопровождалась таким редакционным комментарием: «Всюду жизнь! Глядя на рисунок, невольно вспоминается это название популярной картины художника Ярошенко...»26.
Выводы
Динамично менявшаяся под влиянием социальных, экономических и технологических трансформаций типологическая структура российской прессы начала XX в. вызвала к жизни гибридный нестабильный формат издания. Еженедельная периодичность его выхода обеспечивала удачное сочетание разнообразного содержания и оперативности отклика на текущие события, позволяла широко использовать новые технологические возможности оформления, усиливая визуальную привлекательность издания. Сложное и не всегда гармоничное соотношение тематической специализации и стремления к расширению круга затрагиваемых тем было обусловлено как цензурными условиями, упрощавшими получение разрешения на выход в свет именно специализированных изданий, так и сугубо коммерческими соображениями издателей, не вполне уверенных в том, какая стратегия формирования контента – специализация или универсальность – окажется более прибыльной при нестабильном состоянии журнального рынка. Стремительное развитие полиграфических технологий обусловило широкое и порой избыточное использование средств визуализации: журналистика находилась в поиске гармоничных сочетаний и новых эстетических принципов комбинации разнообразных элементов оформления. Издательская биография А. С. Залшупина, прежде не попадавшая в фокус внимания исследователей русской журналистики, представляет собой характерный пример жизненного пути коммерсанта-издателя периода коммерциализации журналистики.
Еженедельник «Жизнь и суд» продолжал выходить в России вплоть до революции, а спустя много лет пережил второе рождение в Париже в 1930 г. Издатели возрожденного журнала подчеркивали его преемственность по отношению к изданию А. С. Залшупина, которого к тому моменту уже не было в живых. Парижский первый номер журнала имел двойную нумерацию (указывался одновременно и как 218-й). Вот как объясняли это издатели, предваряя номер: «Двести семнадцать номеров для еженедельного журнала – это почти пять лет существования. Именно так оно и было. Та прежняя жизнь журнала началась осенью 1913 года и продолжалась до самых последних дней русской периодической печати, закрытой большевиками после их воцарения в России. Для нас это число – 218 – не простое указание на то, что журнал “Жизнь и Суд” не новый журнал. Это не простое желание пожать здесь, в эмиграции, в новой обстановке плоды того успеха, который имел наш журнал в России. Ставя наш порядковый номер, мы хотим подчеркнуть ту преемственность, которая существует между старым петербургским и новым парижским изданиями журнала. Случайность позволила объединить здесь в Париже представителей не только прежнего издательства, но также и почти весь прежний состав редакции и сотрудников»27.
Пока затруднительно определить, кого подразумевают авторы обращения под «представителями прежнего издательства»: возможно, речь идет о сыне и племяннике А. С. Залшупина. Но даже беглый просмотр журнала 1930 г., в выходных данных которого значится только Le Gerant V. Ivanoff, позволяет заметить, что преемственность, заявленная издателями, была весьма спорной. Сама концепция издания спустя годы переосмысливается в том возвышенном и облагороженном духе, в котором представителям эмиграции часто рисовалось их прошлое на родине. Утверждая, что именно идейные установки прежнего журнала определяют их нынешнюю программу, издатели пишут: «Сущность программы журнала “Жизнь и Суд” выражается в самом его названии. “Жизнь” – говорит о том, что мы, по мере возможности, будем отражать все самое яркое и значительное, что будет происходить у нас в России и здесь заграницей. “Суд” – говорит о нашей борьбе со всем неправым во имя права и о нашем стремлении найти путь к свободе и справедливости для всех»28. Однако довольно поверхностный характер журнала, выходившего до революции, вряд ли сочетается со стремлением «к борьбе со всем неправым» и поиском «пути к свободе и справедливости». В какой мере высоким задачам, обозначенным редакцией, соответствовал парижский журнал – должно стать темой самостоятельного исследования, но очевидно, что рассматривать это издание необходимо уже не через призму типологии русской дореволюционной печати, а в контексте того самобытного и многопланового феномена, каким являлась пресса русской эмиграции.
Примечания
1 Современная жизнь. 1906. №5. С. 55
2 Обращение к подписчикам // «Жизнь и суд». 1915. № 24. С. 5.
3 Краткая автобиография, библиографические сведения, заявление в комитет Союза взаимопомощи русских писателей... с просьбой принять в члены Союза // РО ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 1521. Л. 1-2.
4 Департамент Гражданской Отчетности. Личные дела служащих. Залшупина А. С. 1892–1899 гг. РГИА. Ф. 576. Оп. 4. Ед. хр. 148.
5 Краткая автобиография, библиографические сведения, заявление в комитет Союза взаимопомощи русских писателей... с просьбой принять в члены Союза. РО ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 1521, Л. 3.
6 Краткая автобиография, библиографические сведения, заявление в комитет Союза взаимопомощи русских писателей... с просьбой принять в члены Союза. РО ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 1521Л. 1-2.
7 Письма и прошения разных лиц Ухтомскому Э. Э. с просьбами о предоставлении им работы и с предложением услуг в качестве корреспондентов. РГИА. Ф. 1072. Оп. 2. Ед. хр. 23. 31.03.1899-7.09.1905. Л. 50.
8 Дело об отказе кандидату прав А. С. Залшупину в разрешении издавать в Петербурге газету «Промышленная Россия». РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Ед. хр. 1091. Л. 3.
9 Дело об отказе кандидату прав А. С. Залшупину в разрешении издавать в Петербурге газету «Промышленная Россия». РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Ед. хр. 1091. Л. 19.
10 Дело об отказе редактору-издателю журнала «Промышленный мир» А. С. Залшупину в разрешении издавать в Петербурге журнал «Русские фабрики и заводы». РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Ед. хр. 1656. 14 ноября 1902 г. – 30 ноября 1902 г. Л. 3.
11 Дело об отказе издателю-редактору А. С. Залшупину в разрешении издавать в Петербурге журнал «Знание». РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Ед. хр. 1615. Л.3.
12 С 17 номера издания за 1915 г. в выходных данных указывается не только издатель А. С. Залшупин, но редактор – Борис Залшупин (племянник издателя).
13 Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел. Об издании в Санкт-Петербурге журнала «Жизнь и суд». 1913–1914 гг. РГИА. Ф. 776. Оп. 10. Ед. хр. 1004. Л. 9.
14 «Жизнь и суд», 1915 г., № 17, С. 14.
15 «Жизнь и суд», 1915 г., № 17, С. 14.
16 «Жизнь и суд», 1915 г., № 20, С. 13.
17 «Жизнь и суд», 1915 г., № 28, С. 15.
18 «Похождения сиятельного афериста» // «Жизнь и суд», 1915, №5, С.6.
19 «63 мошенничества» - дневник афериста Досковского, обработанный журналистом д. В. Коломийцевым // «Жизнь и суд», 1915, №20, С.3.
20 «Жизнь и суд», 1915 г.,№ 20, С. 13.
21 «Жизнь и суд», 1915, № 33, С.11.
22 «Жизнь и суд», 1915, № 21, С.7.
23 «Жизнь и суд», 1915 г., № 5, С. 9.
24 «Жизнь и суд», 1915 г., № 33, С. 1.
25 «Жизнь и суд», 1915 г., № 27, С.1.
26 «Жизнь и суд», 1915 г., № 28, С. 11.
27 «Жизнь и суд», № 1(218), 1930, с. 1.
28 «Жизнь и суд», № 1(218), 1930, с. 1.
Библиография
Асташкин А. Г. Типологические и жанровые особенности элитарных журналов об искусстве начала XX в.: на материале журналов «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно» и других. Автореф. дис. … канд. филол. наук.Екатеринбург, 2013.
Воронкевич А.С. Русский еженедельник в начале XX века / Из истории русской журналистики начала XX в. М., 1984. С. 140–159.
Иванова Л. Д. Формирование системы периодической печати в России на рубеже XIX–XX вв. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2013. № 1(110). С. 42–47.
Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 4. М., 1960.
Махонина С. Я. История русской журналистики начала XX века: учебно-методический комплект: учебное пособие, хрестоматия: по специальности 021400 - Журналистика. 4-е издание. М.: Общество с ограниченной ответственностью “ФЛИНТА”, 2009.
Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое лит. обозрение, 2009.
Хомяков В. И. Типологические модификации “тонкого” еженедельника (на примере журнала “Столица и усадьба”) // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2022. Т. 16. № 1. С. 85–91.
Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции (1917–1941). Биографический словарь. СПб: Издательство Чернышева, 1994.
Поступила в редакцию 21.06.2024