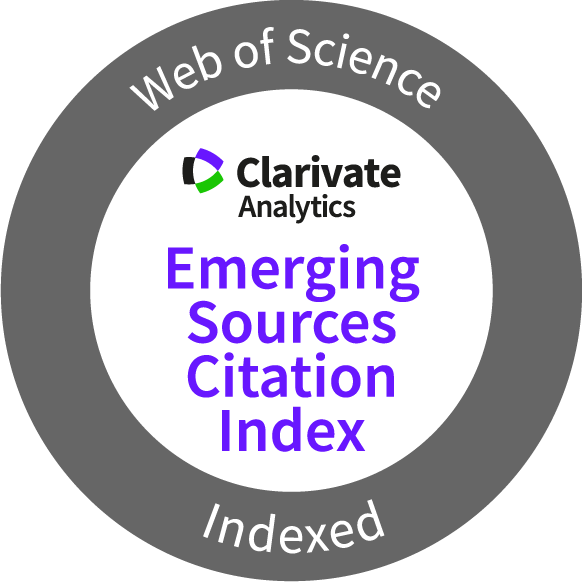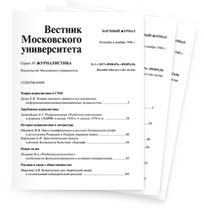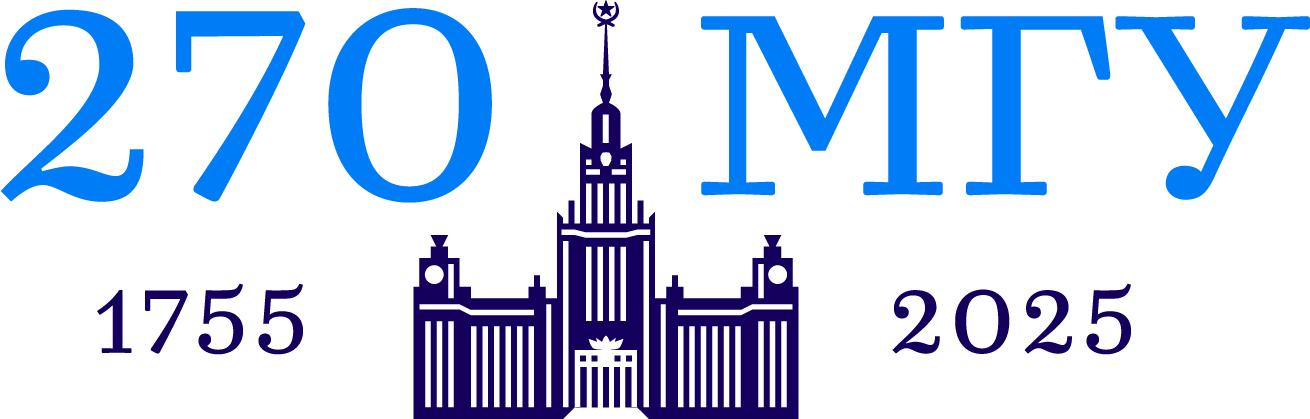Подходы российских исследователей медиа к цитированию в контексте повышения международной видимости отечественных научных публикаций
Скачать статьюкандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID 0000-0002-9199-8069
e-mail: igor.anisimov@gmail.comкандидат филологических наук, доцент кафедры теории и экономики СМИ, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID 0009-0002-6457-7063
e-mail: makeenko.mikhail@smi.msu.ruкандидат филологических наук, старший научный сотрудник кафедры новых медиа и теории коммуникации, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; ORCID 0000-0002-6834-6206
e-mail: natahatri@yandex.ruРаздел: Теория журналистики и СМИ
В статье приведены результаты анализа метаданных 2 011 научных публикаций по медиа и коммуникации, которые были опубликованы исследователями с российской аффилиацией в изданиях, индексируемых в международной базе Web of Science, в 2017–2021 гг. Анализ списков литературы позволил выявить различия в подходах к отбору источников в случае всех статей и тех, которые были опубликованы в зарубежных журналах 1–4 квартилей WoS (221 публикация). В последних значительно чаще цитируются зарубежные источники, в то время как в целом иностранная литература по-прежнему довольно редко и ограниченно привлекается отечественными исследователями. Среди российских источников цитируются в основном современные публикации, что может быть обусловлено тесными связями внутри небольшого сообщества авторов, а также недавним оформлением отечественных исследований в области медиа и коммуникаций в самостоятельную дисциплину.
DOI: 10.30547/vestnik.journ.4.2024.323Введение
Начиная с 2010-х гг. российские научные организации и университеты ведут активную работу по повышению видимости результатов своей работы в международном научном пространстве. Эта деятельность принесла свои плоды: по данным базы Web of Science за 2013–2022 гг., российскими учеными было опубликовано более 404 тыс. научных статей, что соответствует 13 месту среди стран G20. На первом месте находятся США (почти 4,5 млн статей), на втором – Китай (чуть более 4,3 млн), затем Великобритания (почти 1,4 млн). В то же время сухая статистика мало что нам говорит – как о том, насколько статьи российских исследователей действительно стали заметными для зарубежных коллег, так и том, можем ли мы говорить о процессе интеграции отечественных исследователей в международное научное сообщество.
Количество публикаций и даже цитирований характеризует ситуацию довольно поверхностно. Более значимым маркером, отражающим то, насколько стремятся к сближению с международным научным сообществом российские исследователи, является, на наш взгляд, обращение к общей теоретической базе. Таким образом от попытки просто представить себя зарубежным коллегам мы переходим к реальному научному обмену и коммуникации, которая учитывает весь накопленный массив знаний, позволяющий говорить на одном «научном языке».
Именно поэтому представляется актуальной и своевременной задача анализа того, насколько активно российские медиаисследователи обращаются к зарубежным авторам и, соответственно, концепциям, теориям и актуальным научным результатам. Мы попытались ответить на этот вопрос на основе данных, полученных с помощью анализа списков используемой в процессе исследований литературы, что наложило на результаты определенные ограничения1. Тем не менее собранные нами данные позволяют получить представление о ситуации в целом и обозначить дальнейшие направления исследований.
Обзор литературы
Сложности в проведении исследований, построенных на данных о цитировании, связаны с тем, что ссылки могут играть очень разную роль в научных текстах, более того авторы нередко цитируют некоторые источники без необходимости, концепции могут упоминаться формально и т. п.
Существует несколько теорий цитирования, в основе которых лежит понимание того, какую функциональную роль играют ссылки в научном сообществе. Авторы «Руководства по наукометрии» (Акоев, Маркусова, Москалева, Писляков, 2021: 158) выделяют следующие основные концепции (цитируемые фрагменты приведены по «Руководству»):
1) нормативная теория цитирования (Merton, 1973): «Ссылки в научных работах делаются для того, чтобы обозначить работы, являющиеся основой для излагаемого исследования, описывающие использованные методы исследования, связанные тематически и необходимые для обсуждения полученных результатов», т. е. цитируются материалы, ценные для понимания темы с точки зрения автора;
2) социально-конструктивистская теория цитирования (Latour, Woolgar, Salk, 1986): «Цитирования являются способом убеждения читателя, для чего авторы часто ссылаются на работы авторитетных ученых вместо выбора наиболее релевантных ссылок для придания веса свой работе»;
3) концепция гандикапа (Nicolaisen, 2004): «Увеличивая количество ссылок в статье, автор придает своему тексту дополнительный вес, независимо от того, насколько ссылки по смыслу связаны с излагаемым материалом»;
4) рефлексивная теория цитирования (Wouters, 1998, 1999): «Цитаты рассматриваются в качестве индикаторов, создающих формализованное представление науки, и в первую очередь следует учитывать не причины, заставившие автора процитировать ту или иную работу, а то, как цитаты отражают характеристики науки».
Таким образом, зачастую цитирование той или иной работы не имеет ничего общего непосредственно с целями исследования, поэтому и здесь использование количественных показателей самих по себе дает слабое представление о реальном научном вкладе того или иного автора. Еще во второй половине прошлого века исследователи выделяли несколько типов ссылок (Chubin, Moitra, 1975):
1) утвердительные (ключевые или дополняющие);
2) вспомогательные (прямо не связанные с предметом исследования, но все же необходимые в его контексте);
3) подтверждающие (независимые поддерживающие наблюдения); 4) формальные (исследования на ту же тему без комментариев); 5) негативные (которые автор опровергает частично или полностью).
Конечно, на данный момент подобных исследований для разных дисциплин проведено уже множество (Kunnath, Herrmannova, Pride, Knoth, 2022), но для нас важно понимание того, что эта система подсчетов также не совершенна и особенности цитирования могут значительно различаться от дисциплины к дисциплине. Например, результаты уже упоминавшегося выше исследования показали, что 20% ссылок в нескольких журналах по физическим наукам относятся к категории «формальных», авторы предшествующего ему исследования в этой же тематической области выяснили, что таких ссылок около 40% (Moravcsik, Murugesan, 1975).
Если говорить об исследованиях, посвященных выявлению национальных предпочтений в цитировании, то таковых не очень много и они посвящены преимущественно тому, как цитируются статьи российских исследователей, а не кого в них цитируют. Тем не менее мы знаем, что в целом исследователи склонны ссылаться в первую очередь на авторов из своей страны (Lancho-Barrantes, Bote, Vicente, Rodríguez et al., 2012). Это может объясняться разными факторами: личным знакомством с авторами (Thelwall, Maflahi, 2015), специализацией некоторых стран на определенной проблематике (Schwarz, 1999), но в большей степени языком публикаций (Liang, Rousseau, Zhong, 2013; Di Bitetti, Ferreras, 2017; Liu, Hu, Tang, Liu, 2018). Интересно при этом, что в социальных науках активное использование немецкими и французскими исследователями национальных языков (Liu, 2016) может расцениваться в качестве препятствия для обмена знаниями в научном сообществе (Bookstein, Yitzhaki, 1999).
В странах БРИКС ситуация немного иная: российские и китайские исследователи, в отличие от представителей других стран, склонны цитировать отечественную литературу и оставаться в рамках национального круга источников, однако остальные предпочитают цитировать европейских и американских коллег, редко обращаясь к публикациям ученых Глобального Юга (Ai, Masood, 2021).
На данный момент мы мало знаем о том, кого предпочитают цитировать российские авторы статей в журналах, индексируемых в международных базах Web of Science или Scopus, а исследований, посвященных любым аспектам научной деятельности именно в сфере медиа и коммуникации, в России и вовсе крайне мало. Можно сказать, что отправной точкой для нас послужили результаты исследовательского проекта «Разработка фундаментальных основ отечественной теории медиа в условиях трансформации общественных практик и цифровизации СМИ», в рамках которого были рассмотрены направления развития теории медиа в статьях, опубликованных в ведущих русскоязычных изданиях по журналистике, массовой коммуникации и медиа (Макеенко, 2017: 2018). В результате исследования было выявлено, что представители отечественного научного сообщества разных поколений минимально включены в глобальный исследовательский контекст и ограниченно используют зарубежные источники. Указанное исследование затрагивало период с 2012 по 2016 гг. и основывалось на данных российских журналов, поэтому, с одной стороны, мы предполагаем, что с тех пор что-то могло измениться, а с другой стороны, списки литературы и подходы к цитированию в статьях, опубликованных в формально международно-ориентированных журналах, также могут отличаться.
Методика
Основным источником информации в рамках нашего исследования стали метаданные публикаций из международной наукометрической базы Web of Science. Так как нас интересовали результаты реализации системы мер, направленных на повышение видимости отечественных исследований на международном уровне, данные были взяты за 2017–2021 гг. Выбор именно этого периода обоснован тем, что к 2017 г. прошло уже 5 лет после «майских указов»2, то есть у сотрудников и администрации университетов было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям и выстроить деятельность соответствующим образом. Кроме того, именно с 2017–2018 гг. в международных наукометрических базах начали индексироваться отечественные журналы по медиа и коммуникации, в которых опубликовано подавляющее большинство статей.
Для нас представляли интерес публикации отечественных исследователей, поэтому базовым критерием отбора было значение Russia в графе со страной аффилиации авторов.
Для формирования основной базы было использовано два поисковых запроса:
– media or journalism или communication в рамках категории Communication (в результате получена 881 публикация);
– media or journalism или mass communication в рамках 28 категорий WoS социально-гуманитарного блока (в резульате получено 2 140 публикаций).
После этого две базы были объединены, затем из получившегося массива были убраны все дублирующиеся статьи.
Следующим этапом стала ручная чистка базы, в процессе которой из нее также были удалены статьи, по тематике не соответствующие выбранной нами предметной области (ключевые слова упоминались в аннотации, но не были связаны с содержанием статьи, в статьях рассматривалась межличностная коммуникация, технические аспекты телекоммуникаций и тому подобное). Это было сделано для того, чтобы повысить точность результатов, т. к. классификация статей в Web of Science осуществляется на уровне индексируемых в них журналов, а не на уровне отдельных документов (Акоев, Маркусова, Москалева, Писляков, 2021). В связи с этим необходимо учитывать эффект возможного рассеивания статей определенной тематики по журналам (Гиляревский, 2022) – закон Брэдфорда (Bradford, 1934): «Во-первых, при подсчете статей в журналах, относящихся к определенной тематической категории, учитываются далеко не все статьи этой тематики. Если предположить, что в категории WoS приводится число журналов близкое к брэдфордовскому ядру (что возможно, но не очевидно), то это значит, что отражается только одна треть статей, а оставшиеся другие две трети рассеяны по журналам во многих других категориях. Во-вторых, что еще хуже, по тематике этой категории мы учитываем некоторое количество статей, к ней не относящихся» (Гиляревский, 2022: 19). Ручная обработка базы позволила нам решить обе указанные проблемы.
Итоговая база после удаления дублей и ручного отсева статей по тематике составила 2 011 публикаций, включая статьи в журналах и главы из книг.
При более внимательном рассмотрении журналов мы поняли, что в базе есть публикации очень разного вида и характера, что, вероятно, может сильно смазывать результаты нашего исследования. В частности, присутствует огромный массив статей3, опубликованных в трех российских журналах по коммуникации и в одном журнале по филологии, индексируемых WoS, а также большая группа работ, опубликованных в формально зарубежных, однако фактически аффилированных с Россией журналах (например, зарегистрированных в Турции, на Кипре, в Колумбии, но удивительным образом публикующих статьи преимущественно российских ученых) или публикуемых на пространстве бывшего СССР. Возьмем на себя смелость утверждать, что видимость работ, опубликованных в изданиях этих групп, для международного академического сообщества пока априорно минимальна, а авторы этих работ на интернациональную аудиторию ориентируются крайне редко.
Для более глубокого понимания ситуации была сформирована вторая база со статьями из журналов, которые мы условно обозначили как «классические»4. Из нее были исключены все издания, упомянутые в предыдущем абзаце, а также индексируемые в Emerging Sources Citation Index (ESCI).
В итоге «классическую» базу статей составили следующие публикации:
– статьи из зарубежных журналов, которые отнесены к какомулибо квартилю5 (т. е. входящие в индексы SSCI, AHCI), – всего 193;
– главы из книг (BKCI–SSH) – всего 28.
Таким образом, всего в «классическую» базу вошла 221 публикация. Для простоты в дальнейшем слово «публикация» и «статья» мы будем считать синонимами, причислив к статьям и главы из книг, т. к. в рамках нашего исследования тип издания, в котором размещена публикация, не принципиален.
На данном этапе исследования наши основные задачи состояли в том, чтобы:
1) определить, как часто цитируются выделенные нами три группы авторов, а именно:
– «классические», т. е. в основном авторы значимых трудов прошлого века, сформировавших медиакоммуникацию как область исследований;
– «новые», то есть работавшие и публиковавшиеся уже преимущественно в XXI в., однако все еще сосредоточенные в основном на традиционных (нецифровых) медиатехнологиях и классической журналистике;
– «новейшие», которых мы обозначили как «2010+», т. е. авторы, которые, вероятнее всего, в основном концентрировались на изучении функционирования медиа в условиях современных технологий или как минимум учитывали новомедийный контекст;
2) определить, как часто цитируются российские и зарубежные авторы.
При этом в рамках данного исследования мы не пытались определить контекст цитирования и доли ссылок в соответствии с приведенными в обзоре литературы классификациями, т. к. решение этой задачи требует использования совершенно другого комплекса инструментов. Для нас было важно лишь в первом приближении оценить частоту обращения российских авторов к разным типам источников по географическому и временному признаку. В то же время, опираясь на результаты предыдущих исследований, мы обязаны принимать во внимание, что само по себе количество ссылок на зарубежных авторов слабо характеризирует глубину погружения отечественных исследователей в соответствующую литературу, т. к. практики цитирования зачастую далеки от нормативных представлений, описанных Робертом Мертоном.
Всего в статьях из основной базы цитируется 31 681 автор, на которых приходится 49 964 цитирования. 80% авторов были процитированы только один раз.
Для отнесения автора к определенной группе мы ориентировались на год публикации медианной из его процитированных работ. По большинству из них были автоматически сгенерированы значения по полю «группа авторов», однако по 812 записям сделать это не удалось, что в ряде случаев связано с недостаточностью данных (см. табл. 1). Затем также в некоторых случаях проводилось ручное уточнение группы, т. к. искажения давали переиздания и процитированные переводные версии. Стоит учитывать, что ручная проверка всех записей не проводилась, поэтому в связи с автоматическим распределением по группам в результатах исследования могут быть некоторые погрешности.

Как мы видим, вес неопределенных авторов в общем объеме как авторов, так и цитирований совсем не велик. В случае с базой «классических» журналов выпадения данных было значительно меньше, в том числе в процентном соотношении (см. табл. 2). Это объясняется тем, что в общей базе гораздо больше ссылок на русские фамилии и, соответственно, российские источники, что и связано с большим количеством ошибок в выдаче или недостающих данных.

Для того чтобы разделить российских и зарубежных авторов, потребовалось ручное дополнение базы, т.к. информация о цитированиях бралась из списков цитируемой литературы, поэтому во многих случаях было невозможно установить страну аффилиации автора автоматически.
В связи с этим ограничением все расчеты для обеих баз (как всех журналов, так и «классических») проводились только для авторов, которые были процитированы как минимум пять раз. По всей базе таких авторов оказалось 1 021, то есть около 3% от общего массива, однако на них приходится 37% всех цитирований. В случае с «классическими» журналами это 141 автор, т. е. 2% (от 7 197), на которых приходится 11% всех цитирований. Все приведенные ниже таблицы сформированы на основе именно этих данных и не учитывают весь массив.
Результаты
Как хорошо заметно по динамике из таблицы 3, соотношение цитирований в разных группах авторов примерно одинаково для обеих баз – в рамках всего массива предпочтение отдается самым свежим источникам, к чему, с одной стороны, обязывает раздел с обзором литературы, а с другой – тематика статей, которые в основном посвящены актуальным явлениям.

Интересно также, что круг «классических» авторов оказался весьма широк, а доля авторов и цитирований для этой группы различаются гораздо меньше, чем можно было ожидать, то есть можно предположить, что в статьях затронут широкий спектр различных теорий и концепций.
Зато при обращении к статистике цитирования российских и зарубежных авторов мы можем наблюдать очень заметную разницу между двумя базами (см. табл. 4). Если по всей базе треть цитируемых авторов являются отечественными исследователями, то в «классической» базе таковых меньше 10%. Обращает на себя внимание и разница между долей российских авторов и долей приходящихся на них цитирований в рамках всей базы: наличие определенного «ядра» цитируемых авторов здесь гораздо больше выражено, чем в случае с зарубежными, круг которых, очевидно, более широк.

Если же одновременно учесть и принадлежность цитируемых авторов к той или иной группе, и страну аффилиации, то мы можем точнее понять, какого рода источники фигурируют в библиографических списках (см. табл. 5.1–5.2).


Круг цитируемых зарубежных авторов значительно более широк, что логично: таких авторов просто в принципе больше, однако эта разница остро проявляется в случае «новейших» авторов и еще заметна на примере «новых», а вот в случае «классики» практически сходит на нет. При этом только среди «новейших» авторов отечественные исследователи цитируются чаще – среди «новых» и «классических» авторов зарубежные значительно преобладают, в группе «классиков» – уже в несколько раз.
Еще более наглядно указанные тенденции заметны по данным из таблицы 5.3: «классические» зарубежные авторы явно цитируются чаще и формируют гораздо более выраженное ядро, чем российские «классики».

Это может объясняться тем, что значительная часть трудов «классических» зарубежных авторов переведена на русский язык и, соответственно, гораздо более доступна, чем современные источники. Всего среди зарубежных авторов по общей базе мы выявили 68, труды которых переведены на русский язык: 12 из «новых» авторов и 56 – из «классических». Они были процитированы 263 и 1 130 раз соответственно (в случае «классических» авторов это почти половина полученных цитирований).
В случае с базой «классических» журналов ситуация значительно отличается, хотя заметны и некоторые общие тенденции (см. табл. 6.1–6.2).


Зарубежные авторы преобладают во всех группах, среди «классиков» обнаружился только один отечественный автор. Отметим, что в случае «классических» журналов авторов с известными переведенными трудами оказалось всего 14 – из них 2 «новых» и 12 «классических» процитированы 27 и 109 раз соответственно (что в случае последних составляет почти треть цитирований).
Если же смотреть на то, как распределяются отечественные и зарубежные авторы из «классической» базы в рамках сформированных нами групп, мы видим ситуацию практически аналогичную общей базе – с усилением тенденции к цитированию «новейших» российских источников (см. табл. 6.3).

Среди цитируемых российских исследований 80% – «новейшие», т. е. даже отечественные авторы практически не уделяют внимания более ранней российской литературе по медиа, в то время как среди групп зарубежных авторов цитирования распределены гораздо более равномерно.
Заключение
Разница в предпочитаемом круге цитируемых источников между статьями из основной и «классической» баз может объясняться разными факторами. Мы видим, что в «классических» журналах в значительной степени преобладают статьи зарубежных авторов, что может быть связано с необходимостью писать более полные обзоры литературы, дефицитом отечественных исследований, которые заметны на международном уровне, так что подготовка обзора с использованием WoS, например, почти не оставляет места российским источникам.
Диспропорция в цитировании «классических» трудов связана со сложной историей развития социогуманитарных наук в России, особенно в период СССР, ориентацией на западные научные традиции, которые приветствуются (и даже требуются) в качественных западных журналах. В случае с публикациями из основной базы знакомству с зарубежными исследованиями может препятствовать языковой барьер (достаточный уровень владения иностранными языками среди изучающих медиа в России по-прежнему встречается редко).
Как мы уже упоминали в обзоре литературы, результаты предшествовавших исследований показывают, что значительная доля ссылок в научных статьях бывает мало связана непосредственно с научными задачами – значительная часть ссылок относится к типу формальных (Moravcsik, Murugesan, 1975). В ходе предшествовавших исследований было выявлено, что это характерно и для статей российских исследователей медиа и коммуникации: анализ списков литературы статей из университетских журналов за 2012–2016 гг. показал, что «списки литературы, которые есть практически в каждой статье, схожи со списками ключевых слов и до сих пор очень часто выполняют не столько навигационную функцию, сколько «нормативную» — показывают не реально использованные источники, а работы, которые следует упоминать для создания “правильного” академического контекста» (Макеенко, 2017: 22).
Можно также предположить, что на самом деле разрыв между базами должен быть еще заметнее, но он в некоторой степени маскируется упоминанием тех трудов, с которыми российские авторы знакомы по переводам. Это косвенно подтверждается и результатами упомянутого выше исследования: 70% наиболее часто упоминаемых зарубежных источников – переводные, а «практически весь корпус классических и актуальных зарубежных текстов, монографий и научных статей, посвященных исследованиям и теориям медиа», остается вне поля зрения значительной части авторов (Там же: 24). Весьма вероятно, для изучаемого нами корпуса текстов также характерны многие из указанных тенденций, хотя, возможно, и в несколько меньшей степени, чем в случае с университетскими журналами. В пользу этого предположения говорит и некоторое смещение доли цитирований от «новейших» к «классическим» трудам в основной базе по сравнению с «классической».
В результате проведенной нами работы нет возможности достоверно оценить качество цитирования зарубежных источников, а также то, насколько на самом деле иностранные концепции, теории и актуальные результаты исследований интегрированы в российский научный дискурс. Использование машинных инструментов для распределения по временным периодам создает дополнительные ограничения, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов. Также сложно говорить о том, как будут меняться практики цитирования зарубежной литературы в связи с текущими ограничениями доступа к научной информации и наукометрическим базам данных, которые активно использовались российскими исследователями для поиска релевантных источников.
В то же время в работах из основной базы мы видим явную склонность к цитированию коллег из своей страны: как мы уже указывали, это распространенное явление в случае России тесно связано с некоторой обособленностью научных журналов на русском языке, языковым барьером и не особенно развитыми личными связями с зарубежными исследователями.
Мы можем с уверенностью заключить, что на данный момент зарубежная литература в статьях российских исследователей попрежнему цитируется довольно ограниченно: в публикациях из журналов исключительно российских или аффилированных с Россией это не более половины всех ссылок. Конечно, это может быть в некоторой степени связано и с тематическими особенностями статей, основанных на анализе национального опыта, однако даже в этом случае сложно себе представить научную проблему, которая не была бы затронута в зарубежных исследованиях или не требует привлечения соответствующих западных теорий. Цитирования в случае российских источников приходятся преимущественно на современные публикации, что может объясняться как довольно тесными связами внутри не такого уж большого сообщества исследователей, так и тем, что российские исследования медиа и коммуникации не так давно начали оформляться в самостоятельную дисциплину и отечественных наработок в этой сфере пока крайне мало.
Примечания
1 Более ранние исследования практик цитирования российских исследователей показали, что «в очень большом числе случаев упоминание теории или цитирование того или иного автора никак не коррелируют с темой, проблемой и даже тематикой статьи» (Макеенко, 2018).
2 «Майские указы» задали тенденцию к постоянному наращиванию публикационной активности, которая продолжает выступать в качестве одного из основных KPI для сотрудников всех государственных организаций науки и образования. Кроме того, был окончательно закреплен тренд на развитие университетской науки (а не академической, что для России ранее было гораздо более характерно), т.к. в указе сделан акцент именно на научных достижениях вузов. См.: Правительство РФ. Указ президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». — 2012. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/15236 (дата обращения: 20.10.2023).
3 686 статей в нашей базе (чуть больше 34%) приходится всего на четыре российских журнала: «Вопросы теории и практики журналистики» (228 статей), «Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика» (172 статьи), «Медиаобразование» (187 статей) и «Научный диалог» (99 статей).
4 Такое обозначение было выбрано в связи с тем, что в «классическую» базу вошли журналы из «классических» индексов, которые уже давно существуют в рамках Web of Science, – в отличие от Emerging Sources Citation Index, добавленного только в 2015 году.
5 Данные о квартилях взяты из базы данных Scimago за 2021 год.
Библиография
Акоев М. А., Маркусова В. А., Москалева О. В., Писляков В. В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии; 2-е изд. / под. ред. М. А. Акоева. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2021.
Гиляревский Р. С. О некорректности использования индексов цитирования для вычислений по сопоставлению разделов науки // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 2022. № 2. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48613524_87035806.pdf (дата обращения: 20.10.2023).
Макеенко М. И. Направления трансформации теоретических подходов в российских исследованиях влияния цифровизации на медиа // Медиаскоп (электронный журнал). 2018. Вып. 3.
Макеенко М. И. Развитие теорий медиа в российских научных журналах в 2010-е гг.: результаты первого этапа исследований // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2017. № 6. С. 3–31.
Мертон Р. К. Эффект Матфея в науке, II: накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности. THESIS. 1993. № 3. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/033/314/1234/3_6_1Merto.pdf (дата обращения: 20.10.2023).
Ai M., Masood M. (2021) De-Westernization in journalism research: a content and network analysis of the BRICS journals. Scientometrics 126: 9477–9498. DOI: 10.1007/s11192-021-04194-5
Bookstein A., Yitzhaki M. (1999) Own-language preference: A new measure of “relative language self-citation”. Scientometrics 46: 337–348. DOI: 10.1007/BF02464782
Bradford S. C. (1934) Sources of information on specific subjects. Engineering. 137:85-6.
Chubin, D. E., Moitra, S. D. (1975). Content Analysis of References: Adjunct or Alternative to Citation Counting?. Social Studies of Science 5 (4): 423–441. DOI: 10.1177/030631277500500403
Di Bitetti M. S., Ferreras J. A. (2017) Publish (in English) or perish: The effect on citation rate of using languages other than English in scientific publications. Ambio 46: 121–127. DOI: 10.1007/s13280-016-0820-7
Lancho-Barrantes B. S., Bote G., Vicente P., Rodríguez Z. C., de Moya Anegón F. (2012). Citation flows in the zones of influence of scientific collaborations. Journal of the American Society for Information Science and Technology63(3), 481–489.
Latour B., Woolgar S., Salk J. (1986) Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Liang L., Rousseau R., Zhong Z. (2013) Non-English journals and papers in physics and chemistry: bias in citations?. Scientometrics 95: 333–350. DOI: 10.1007/s11192-012-0828-0
Liu F., Hu, G., Tang, L., Liu W. (2018) The penalty of containing more non-English articles. Scientometrics 114:359–366. DOI: 10.1007/s11192-017-2577-6
Liu W. (2016) The changing role of non-English papers in scholarly communication: Evidence from Web of Science's three journal citation indexes. Learned Publishing 30: 115-123. DOI: 10.1002/leap.1089
Merton R. K. (1973) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago Press. Available at: https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo28451565.html (accessed: 20.10.2023).
Moravcsik M. J., Murugesan P. (1975) Some Results on the Function and Quality of Citations. Social Studies of Science 5: 86–92.
Nicolaisen J. (2004) Social Behavior and Scientific Practice – Missing Pieces of the Citation Puzzle. PhD thesis.Available at: https://www.researchgate.net/publication/247562092_Social_Behavior_and_Scientific_Practice-Missing_P... Citation_Puzzle (accessed: 20.10.2023).
Schwarz A. W. (1999) Scientific centres in Europe: An analysis of research strength and patterns of specialisation based on bibliometric indicators. Urban Studies 36 (3), 453–477.
Kunnath S.N., Herrmannova D., Pride D., Knoth P. (2022) A meta-analysis of semantic classification of citations. Quantitative Science Studies 2 (4): 1170–1215. DOI: 10.1162/qss_a_00159
Thelwall M., Maflahi N. (2015) Are scholarly articles disproportionately read in their own country? An analysis of mendeley readers. J Assn Inf Sci Tec 66: 1124–1135. DOI: 10.1002/asi.23252
Wouters P. (1998) The Signs of Science. Scientometrics 41 (1–2): 225–241. DOI: 10.1007/BF02457980
Wouters P. (1999) Beyond the Holy Grail: From Citation Theory to Indicator Theories. Scientometrics 44 (3): 561–580. DOI: 10.1007/ BF02458496
Как цитировать: Анисимов И. В., Макеенко М. И., Трищенко Н. Д. Подходы российских исследователей медиа к цитированию в контексте повышения международной видимости отечественных научных публикаций // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2024. № 4. С. 3–23. DOI: 10.30547/vest- nik.journ.4.2024.323
Поступила в редакцию 08.05.2024